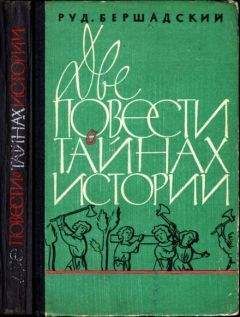Е Мурина - Ван Гог
Почувствовав, что к весне 1887 года он овладел импрессионистической техникой раздельного мазка, Ван Гог позволяет себе "пройтись" по парижским местам, напоминающим классические мотивы импрессионистов. Рестораны, неотъемлемые от парижского образа жизни, уголки пышных парков, мосты и набережные Сены, зеленые пригороды - Аньер, Шату и Жуанвиль, излюбленные парижскими живописцами, становятся сюжетами его картин, когда он, наконец, решился покинуть холмы Монмартра ("Ресторан "Сирена" в Аньере", F312, местонахождение неизвестно; "Ресторан в Аньере", F321, Амстердам, музей Ван Гога; "Мост Клиши", F352, Техас, частное собрание; "Рыбная ловля весной близ моста Леваллуа", F354, Чикаго, Институт искусств; "Бульвар Клиши", F292, Амстердам, музей Ван Гога; некоторые автопортреты и т. д.). Он пишет "урбанистические" виды ("Вид из окна комнаты Винсента на улице Лепик", F341, там же), наконец, индустриальные пейзажи ("Заводы в Аньере", F318, Мерион, Пенсильвания, вклад Барна; "Заводы в Аньере, видимые с набережной Клиши", F317, Сент-Луис, Городской музей искусства). Все это дань современному пейзажу, открытому как большая тема искусства импрессионистами. Правда, Ш. Этьен усматривает, и не без оснований, в урбанистических пейзажах Ван Гога влияние Ж.-Ф. Рафаэлли, интересовавшего его еще в Голландии, который писал рабочие пригороды Парижа, используя некоторые приемы импрессионистов 31.
Множество работ Ван Гога указывает на то, что он легко мог бы овладеть артистизмом импрессионистической живописи, легкой, изящной, внутренне беззаботной, не отягощенной противоречиями между художником и миром. Таков, например, пейзаж "Сады Монмартра" (F350, Амстердам, Городской музей), явившийся высшей точкой сближения с импрессионистами. Эта картина, написанная мелкими мазками светлых красок, дает пример очень искренней имитации импрессионистического пейзажа, после которой Ван Гог уже никогда больше не стремится стать таким ортодоксальным учеником мэтров с "Больших Бульваров".
Вся группа упомянутых пейзажей дает представление о характере его позиции "попутчика" импрессионизма. Как уже говорилось, вопрос преемственности с импрессионистами был очень существен для развития каждого постимпрессиониста, настолько существен, что граница между теми и другими проходила в эти годы не вовне, как это бывает между враждующими направлениями, а внутри искусства и даже "внутри" художников. Что касается Ван Гога, то он осваивал новую живопись в целом, не обращая внимания на разногласия поколений, казавшиеся им принципиальными. Для него особой притягательностью обладала систематичность импрессионизма в вопросах мастерства. Эта "бодрящая и укрепляющая нервы теория", как сказал об импрессионизме О. Э. Мандельштам, сразу же зачаровала его, человека страстей, инстинктивно боящегося произвола и бесформенности, жаждущего "математики", умения вычислять, соразмерять, строить, уравновешивать. Тем более его увлекает методичность дивизионистов, придавших технике раздельного мазка теоретически обусловленный порядок.
Работая летом и осенью 1887 года в окрестностях Парижа то в обществе Бернара, то в обществе Синьяка (они были врагами и соединить их вместе ему не удалось, несмотря на все усилия), он "подсматривает" за приемами то того, то другого. Известно, что Ван Гог не только не боялся влияний, но искал их, стремясь обогатиться открытиями других и не опасаясь потерять свою индивидуальность. Его меньше всего волновали вопросы приоритета в области открытий, и он со свойственным ему смирением в этих вопросах берет что-то от всех, совершенствуясь и втайне созревая в некое обособленное и оригинальное явление. Находясь в самой гуще потока парижской художественной жизни и ориентируясь на импрессионизм, он маневрирует среди имен, течений, впечатлений, и мы видим его то у истоков этого движения (Делакруа, Монтичелли), то подходящим к нему со стороны дивизионизма (Сёра, Синьяк, Писсарро), то с противоположной стороны - Гоген, Бернар, Анкетен, тяготеющие к символизму. Но он не проходит и мимо Тулуз-Лотрека, который летом 1887 года пишет свои сцены из жизни Монмартра. Следы этого влияния заметны в картине "Женщина, сидящая в кафе Тамбурин" (F 370, Амстердам, музей Ван Гога), но более глубокое воздействие стиля Лотрека обнаружится позднее, в Арле, когда он будет в некоторых портретах применять прием обостренно-угловатых, "разорванных" силуэтных характеристик ("Портрет актера", F 533, музей Крёллер-Мюллер; "Юноша в каскетке", F 536, Цюрих, собрание Натан; "Арлезианка", F488, Нью-Йорк, Метрополитен-музей, или картина "Вид арены в Арле", F 548, Ленинград, Эрмитаж), где самый сюжет напомнил ему приемы неповторимого завсегдатая Монмартра.
Итак, Ван Гог соприкасался с новой живописью по всему ее фронту - от импрессионизма до символизма, и эти точки соприкосновений определяют характер его стиля, сложившегося между 1887-1888 годами.
Правда, теперь, летом и осенью 1887 года, все больший перевес над другими влияниями приобретает дивизионизм. Бернар свидетельствовал, что "видали, как он обращается к учебникам физики и как расспрашивает Писсарро и Синьяка о теории дополнительных цветов и разделении тона" 32. В целом ряде работ Ван Гог увлекается логичностью пуантилизма, обуздывая свой темперамент ради скрупулезного выкладывания живописной ткани путем мельчайших частиц чистой краски. Таковы некоторые картины, написанные, возможно, в обществе Синьяка: "Уголок парка в Аньере" (F 276, Нью-Хевен, Университетская художественная галерея), "Вид из комнаты Винсента на улицу Лепик" (F 341), "Дорога с крестьянином, несущим лопату" (F 361, обе Техас, собрание К. Г. Джонсон), "Аржансон-парк в Аньере" (F 314, Амстердам, музей Ван Гога) и, наконец, лучшая вещь этого ряда "Интерьер ресторана" (F 342, музей Крёллер-Мюллер), где сотни сверкающих чистым цветом точек мерцают и сопрягаются в "дрожащее" пестрое марево, преодолевающее телесность и тяжесть предметного мира.
Нетрудно, однако, заметить, что в тенденции Ван Гог скорее стремится воспользоваться, как это было и с импрессионизмом, внешними признаками пуантилистической живописи, нежели погрузиться в ее сущность. Кропотливая аналитическая манера, позволяющая достигнуть с помощью мелкого мазка согласованного звучания чистых цветов, требовала, как необходимого условия работы, покоя, созерцательной ясности духа. Иногда Ван Гог достигал такой внутренней гармонии, и ему словно бы удавалось притаиться в тени своих учителей, став тонким наблюдателем цветовых колебаний натуры. Но чаще всего он комбинирует технические новшества дивизионизма с приемами контрастного противопоставления больших цветовых пятен, заимствованными у японцев и художников круга Гогена, в частности Анкетена, Бернара. В зонах объединения основные пятна у него распыляются на цветовые точки, запятые, черточки, связывающие воедино противоборствующие контрастные цвета и различные планы в декоративное целое. Они играют роль вспомогательного вещества, цветового "агента", смягчающего контрасты, достаточно произвольно "ведущего" себя, не имея иной задачи, кроме осуществления связи между основными массами. Именно потому все эти цветовые точки, черточки и штрихи (особенно Ван Гог любит именно штриховку) становятся чутким "сейсмографом" его эмоций, подчиняясь не логике конструирования цветового пространства, а ходу его восприятия, со всеми его подъемами и сбоями.
Даже у Писсарро, "экспрессиониста" среди импрессионистов, каждый из сотен мазков лежит на своем, предопределенном ему логикой колорита месте. Здесь есть строгость конструкции, хоть и скрытой. В картинах Ван Гога ощущаешь какую-то опасную нервозность: кажется, что эти мазочки подчиняются силе, находящейся вовне, не обусловленной конструктивными задачами. И дальнейшая эволюция дивизионистских приемов в системе вангоговских средств это подтверждает. Так, например, в одном из лучших автопортретов этого периода ("Автопортрет в серой фетровой шляпе", F 344, Амстердам, музей Ван Гога) многоцветные точки и штрихи, располагаясь наподобие "ореола" вокруг головы, способствуют "сцеплению" этого активного объема с фоном, которому одновременно придают плоскостной характер. Этот прием с "ореолами", динамичными точками, окружающими предмет дополнительным к фону цветом, стал одним из излюбленных и в последующие годы. Ничтоже сумняшеся Ван Гог присвоил себе пуантель, оторвав ее от цветовой конструкции. Впоследствии пуантель будет создавать все те спирали и завихрения, которые характерны для его последнего периода, окончательно утеряв связь с породившей их теорией Сёра. Подобное обращение с пуантелью, которой дивизионисты придавали значение строго аналитического элемента, выполняющего функцию основного "строителя" картины, характерно для позиции Ван Гога, использующего новшества парижан как средства воплощения своего видения мира.
По-прежнему стремясь изображать "внутреннее" - страсть, отчаяние, радость и т. п., то есть то, что в принципе "нельзя нарисовать", поскольку его нельзя уловить в строго фиксированном образе, Ван Гог с самого начала выступает как потенциальный разрушитель этой, по-своему совершенной системы фиксации внешнего в искусстве, разработанной импрессионистами и неоимпрессионистами. Немецкий искусствовед Марцинский писал: "То, что осуществил импрессионизм, - это радикальную редукцию предметно оформленного мира к его видимому и потому подлинно воспроизводимому ядру. Так как его мир подлинно воспроизводим, в силу этого ему больше не нужно раздумывать о перспективе, о вещественности рисунка, о возможности воспроизведения материала. Ему не важно уже искать и применять художественные приемы, ему важно одно: вглядываться и воспроизводить" 33.