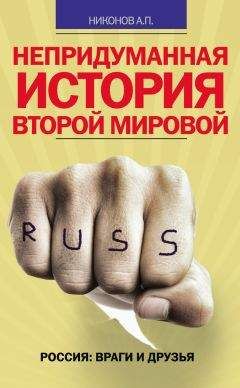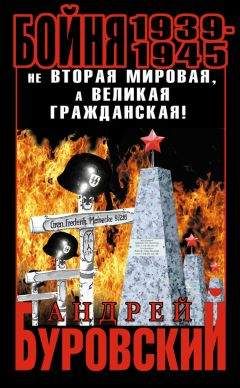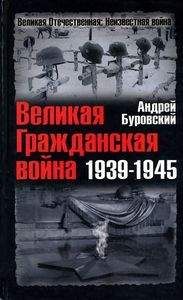От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
Глава 13. Союзнички
Трумэн: справедливым курсом
Если Советский Союз после окончания Второй мировой войны еще только разгребал руины, то Америка переживала бум. Военные возвращались на родину, строили дома, создавали семьи, поступали в колледжи согласно закону о военнослужащих. Женщины, работавшие на фермах и фабриках, вновь уступали свои места мужчинам. Заводы переориентировались на выпуск гражданской продукции: автомобилей, бытовой техники и других потребительских товаров. На окраинах городов стали расти «спальные районы».
Идеи военной мобилизации, позволявшие осуществлять широкое вмешательство государства в экономические процессы, все больше уступали место консервативным взглядам в духе свободного рынка, опоры на индивидуальные права, сражения с коммунизмом и риторики свободы.
В первый год президентства Трумэн уволил из кабинета влиятельных идеологов «Нового курса», консерваторы заметно усилили свои позиции. Вместе с тем, программа, выдвинутая Трумэном в сентябре 1945 года, вобрала в себя многие законодательные инициативы либералов военных лет – национального медицинского страхования и создания первой в истории президентской комиссии по гражданским правам негров.
«6 сентября 1945 года я направил Конгрессу одно из самых важных посланий моей администрации… Это послание из 21 пункта положило начало „Справедливому курсу“, и 6 сентября 1945 года стало датой, которая символизирует для меня начало моего собственного управления президентской администрацией. Именно в этот день и этим посланием я впервые изложил детали программы либерализма и прогресса, которая должна была стать основой политики моей администрации», – заявлял Трумэн.
Это было одно из самых длинных посланий, которые президент США когда-либо направлял Конгрессу. «Оно содержало примерно 16 000 слов и было самым длинным с 1901 года, когда Теодор Рузвельт обратился к Конгрессу с посланием в 20 000 слов, – подчеркивал Трумэн. – Я не пытался передавать его лично, а разослал печатные копии всем членам палаты представителей и сената. Фактическое чтение послания осуществлялось клерками-чтецами в обеих палатах».
Одним из ключевых пунктов программы – революционным для США – стала рекомендация о подтверждении права на труд и создании условий для полной занятости. В течение следующих десяти недель Трумэн направил в Конгресс серию инициатив, которые касались медицинского страхования, национализации атомной энергетики, федеральной поддержки образования. При этом Трумэн не уставал петь дифирамбы свободному рынку и сокращению государственного регулирования.
В Соединенных Штатах неплохо понимали, что американская атомная бомба окажет серьезное воздействие на мышление советского руководства и на ее стремление создать собственное ядерное оружие.
Гарриман позднее размышлял о психологическом воздействии американской атомной бомбы на Москву: оно оказалось особенно сильным, поскольку пришлось на момент торжества советской военно-политической мощи, которая после долгих лет изоляции и войн, казалось, наконец-то обеспечила безопасность СССР на многие годы, создав необходимую «глубину обороны» по всему периметру страны. Ядерная бомба сразу девальвировала мощь Красной армии и оборонительное значение территориальных приращений, «возродив прежнее ощущение опасности».
Похожие мысли посещали советника-посланника английского посольства в МосквеФ.Робертса, который писал в Лондон: «Тень атомной бомбы омрачила наши отношения, и за каждым проявлением англо-американской солидарности, будь то Болгария или Румыния, правители Советского Союза, доселе уверенные в подавляющей мощи Красной армии, стали усматривать угрозу англо-американского блока, обладающего этим решающим оружием и потому способного не только лишить СССР плодов победы, но и создать угрозу его с таким трудом завоеванной безопасности».
Заместитель госсекретаря Дин Ачесон предупреждал президента Трумэна: «Столь сильное и озабоченное своей мощью государство, как советское, не может не прореагировать решительно на создавшуюся ситуацию. Оно должно и непременно будет направлять всю свою энергию для восстановления баланса сил, нарушенного этим открытием. Если мы сохраним политику исключения (СССР из сотрудничества по атомной теме – В.Н.), то они будут делать это в атмосфере подозрительности и враждебности, усугубляя все существующие между нами проблемы».
Даже само использование ядерного оружия против Японии не встречало полного понимания в ближайшем окружении Трумэна. Адмирал Леги писал: «По моему мнению, применение этого варварского оружия против Хиросимы и Нагасаки не оказало нам материальной помощи в войне против Японии. Японцы были уже разбиты и готовы капитулировать в результате эффективной морской блокады и успешной воздушной бомбежки с использованием обычного оружия».
И в Америке уже набирали силу антиядерное движение, в первых рядах которого окажется Альберт Эйнштейн. В реализации проекта «Манхэттен» Смит в его нашумевшем отчете отводил историческую роль письму, написанному Эйнштейном Рузвельту в 1939 году, чем немало смутил великого ученого.
С того дня в сознании людей Эйнштейн и стал ассоциироваться с созданием атомной бомбы. Журнал «Time» немедленно поместил на обложку портрет Эйнштейна с грибовидным облаком сзади, украшенным формулой E = mc2. В редакционной статье говорилось: «Альберт Эйнштейн непосредственно над бомбой не работал. Но Эйнштейн является отцом бомбы по двум важным причинам: 1) именно по его инициативе началась разработка бомбы в США; 2) именно его уравнение (E = mc2) указало на теоретическую возможность создания атомной бомбы». Действительности это никак не соответствовало. Когда же в руки ученого попал «Newsweek» с его портретом на обложке и заголовком «Человек, положивший этому начало», Эйнштейн с горечью заметил:
– Зная, что немцам не удастся создать атомную бомбу, я бы никогда пальцем о палец не ударил…
Посвятив остаток дней борьбе за мир, Эйнштейн за несколько месяцев до смерти скажет:
– Возможно, я могу быть прощен, ведь все мы считали, что немцы, весьма вероятно, работают над этой проблемой, что они могут преуспеть и, используя атомную бомбу, стать господствующей расой.
После окончания войны с Японией в США развернулись дебаты о том, что же в итоге делать с бомбой и со знаниями о ядерном оружии.
Трумэну, от которого в этом вопросе зависело все, заранее знал на него ответ: «Теперь нам предстояло найти какой-то способ контролировать эту новую энергию, – достаточно цинично писал он. – Разрушение Хиросимы и Нагасаки стало для меня достаточным уроком. Мир не мог позволить себе рисковать войной с применением атомного оружия. Но до тех пор, пока не будет найден практичный и надежный способ контроля, важно было сохранить преимущество, которое давало нам обладание бомбой. Другими словами, теперь было более чем когда-либо необходимо соблюдать секретность бомбы».
Уже 15 августа Трумэн отдал приказ госсекретарю, военному министру, министру военно-морских сил, Объединенному комитету начальников штабов, директору Управления научных исследований и разработок: «Соответствующим министерствам и Объединенному комитету начальников штабов настоящим предписывается принять такие меры, которые необходимы для предотвращения разглашения любой информации, касающейся разработки, проектирования или производства атомной бомбы, а также ее использования в военных или военно-морских операциях, за исключением тех конкретных случаев, когда это санкционировано президентом». Бдительность на всех объектах, имевших отношение к ядерному проекту, была усилена.
Одновременно, как уже говорилось, прорабатывались планы ядерных бомбардировок Советского Союза. В 2018 году достоянием гласности стала секретная записка на имя генерала Лесли Гровса, датированная 15 сентября 1945 года. Там содержался расчет ядерных средств, необходимых для нанесения поражения Советскому Союзу. Говорилось, что для уничтожения 66 ключевых городов и основных военных объектов СССР потребуется минимум 224 ядерных заряда. Но с учетом «половинного коэффициента эффективности» первых двух использованных бомб, для уничтожения основного военного и промышленного потенциала Советского Союза понадобится 466 атомных бомб. Оценка для американцев была не самой обнадеживающей: к концу 1945 года США накопят только 9 бомб, которые не смогли бы решающим образом разрушить советскую военно-промышленную инфраструктуру. Но само существование подобных планов и расчетов уже говорило о многом.