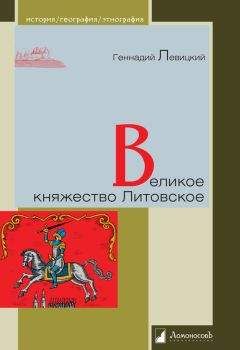Владислав Реймонт - Последний сейм Речи Посполитой
- Я видел, как падала королевская голова из-под ножа гильотины, а палач схватил ее за волосы и показывал народу...
Он почти весь посинел от волнения.
- Что с вами? Вы больны, может быть? - спросила та испуганно, совершенно не понимая его беспорядочных слов и дико пылающего взгляда. Выйдемте на воздух. У вас, наверно, от жары разболелась голова, - по доброте своей беспокоилась она о его состоянии, освежая его какими-то солями.
Заремба успокоился немного, но выйти не хотел и вскоре опять окунулся в пучину жгучих размышлений. Холодным взглядом водил он по лицам сенаторов, депутатов и вельмож, на некоторых останавливался подолгу, другие словно откладывал в сторону, но большинство он рубил тяжелым, как секира палача, словом: "Виновен!" - и окровавленных бросал мысленно в корзину, в кучу белых опилок.
Но вдруг вспыхнула мысль, ослепительная, как молния: "Все виновны!"
Стоял, словно громом пораженный, но не согнулся под ударом и продолжал размышлять неумолимо:
"Везде развал, разложение, игра самолюбий! Везде - бездна и неизбежная гибель. Грязное болото вечного позора, преступлений и подлости! Проклятие вам, дети, продающие в оковы родную свою мать, проклятие!"
Но тут же словно пал ниц перед незримым лицом жестокой судьбы и взмолился всей своей измученной, любящей душой о спасении.
На хорах зашуршал вдруг какой-то многоголосый шепот, и печальные глаза его обратились туда, на эти исхудалые лица, непричесанные головы, грубые черты и невзрачные фигуры мелкого городского люда. С минуту парил над ними, как орел, прежде чем ринуться на стадо, но тотчас же душу его подхватил какой-то вихрь и унес в беспредельную даль, в деревни и города, в кишащие толпы народа, втоптанные в землю насилием, вечно голодные, вечно обижаемые, вечно порабощенные и только внешним видом напоминающие человеческое племя.
"К оружию! К оружию!" - кричал он мысленно полным отчаяния голосом.
И с трепетом ждал отклика. Услышат ли? Поймут ли? Захотят ли?
Ведь для них вся гибнущая родина - только дом неволи! Могут ли они отдавать жизнь для спасения - чего? - оков и совершаемого над ними насилия?
- Вы решили непременно тревожить меня своим хмурым видом, - стала жаловаться подкоморша, заглядывая ему с нежностью в глаза.
- Меня окружили такие призраки, что я и сам не знаю, что с собой делать.
- Надо прийти ко мне с исповедью, у меня вы легко найдете благодать утоления.
Однако ни до исповеди, ни до нежной сцены прощения и утоления печалей не дошло, так как в этот момент председатель сейма Белинский, троекратно ударив жезлом, открыл заседание и, следуя регламенту, а еще больше Сиверсову наказу, обратился строго к публике, заполнявшей хоры:
- Господа, прошу удалиться!
Но, хотя толстяк Рох в своем синем кафтане с золотым позументом, постукивая окованной серебром булавой, грозно повторил то же самое, никто не спешил уходить.
Тенгоборский, секретарь сейма, прочел список вопросов, подлежащих обсуждению в заседании. Вслед за этим председатель открыл собрание вопросом об отношениях с Пруссией, - о полномочиях для делегации, которая должна будет вести переговоры с Бухгольцем, если представителям народа угодно будет этот вопрос заслушать.
- Нет! Долой полномочия! Не надо! Не позволим! Не хотим! - поднялись бурные протесты с депутатских скамей, хоры же энергично поддержали их топаньем и криком.
Коронный канцлер Сулковский встал со своего места рядом с королем и стал убеждать скрипучим голосом, что полномочная грамота, составленная по наказу народных представителей, находится уже сейчас в руках епископа Массальского. Полный текст ее, в копии, он поручил зачитать секретарю.
Но тут снова поднялся шум, десятка два депутатов настойчиво требовали слова, а хоры неистово загалдели, не давая читать встававшему несколько раз и тщетно пытавшемуся начать Тенгоборскому.
- Сейчас нас погонят штыками, - заволновался Заремба, поглядывая на двери.
- Против прусского короля можно возмущаться, а вот попробуйте-ка сделать то же самое против наших "союзников"! - шепнула подкоморша из-за веера.
Председатель изо всех сил стучал жезлом по столу, король хмурил брови, сенаторы волновались, но только когда на трибуну взошел плоцкий депутат Карский, в зале утихло.
После него говорил ломжинский депутат Скаржинский и ливский Краснодембский, и все они говорили одно и то же: наказ народных представителей требовал, чтобы канцлер представил проект полномочной грамоты, а не ее окончательную редакцию, словно это был вопрос уже решенный.
- Спорят о словах, - раздражался Заремба.
- Важно затянуть дело, а не разрешить его, - объяснила подкоморша, аплодируя Краснодембскому; за ней, точно по команде, дружно захлопали все сидевшие на хорах.
- А сейчас слушайте со вниманием, - предупредила она его, направляя куда-то лорнет.
На трибуну взошел Гостковский, депутат от Цеханова, худощавый человек средних лет в мазурском темно-синем кунтуше и жупане палевого цвета, с бритой головой, с загорелым продолговатым лицом, голубыми глазами и светлыми подстриженными усами. Он с места в карьер начал критиковать отсутствие в верительной грамоте пунктов о недопустимости уступки Торуня и Гданьска прусскому королю.
- И ни пяди польской земли, ни одного камня от Торуня и Гданьска! повторил с нажимом Гостковский. - Насилием, подлостью и интригами хотят заключить в оковы Речь Посполитую! Всемилостивейший король! Светлейшие представители сословий, - восклицал он громким голосом, полным душевной муки, - не прикладывайте рук к приумножению стонов и обид ваших братьев, не способствуйте торжеству насилия и измены, чтобы не сказали грядущие поколения, будто мы добровольно, по разгильдяйству, из подлого страха и позорной нерешительности попали под ярмо. Прусский король с лисьим доброжелательством и лживыми клятвами называл себя нашим другом, и он же первый позорно предал нас. Не может быть переговоров с подобным предателем! Не может быть с ним никаких договоров! Не ведут переговоров с бешеной собакой, кусающей людей и распространяющей заразу, а всякий, кто жив, хватает в руки что попадается - камень, железо или жердь из забора - и бьет, бьет врага до последнего издыхания, бьет его до смерти, - закончил он.
Буря аплодисментов огласила зал, хоры тряслись от топанья и крика.
- Никаких переговоров! Бить колбасников! Долой пруссаков!
Председатель, не будучи в силах успокоить шум ни колокольчиком, ни криком, закрыл заседание и покинул свое место, король тоже скрылся за красный занавес, после чего двери, ведущие на хоры, с шумом распахнулись, послышалась тяжелая поступь солдат, и на хорах засверкал лес взятых наперевес штыков. Егеря вмиг очистили хоры от ревущей толпы, оставив только дам, своих офицеров и Роха, охрипшего от крика.
Заремба, подхваченный теснящейся толпой, убегающей от штыков, не заметил, как очутился во дворе замка. Он приводил в порядок жестоко смятый свой фрак, раздумывая, как бы попасть назад, к покинутой им подкоморше, когда подбежал к нему Новаковский.
- Разыскиваю тебя. Можем ехать домой.
Он был зол и взволнован.
- Король отложил уже заседание на понедельник?
- Еще нет. Но сегодня там не будет ничего заслуживающего внимания.
Оба сели в экипаж, ждавший на площади. Лошади резво тронули.
Сумерки стлались уже над городом, только кое-где еще сверкали кресты костелов, и по небу разливались золотистые бухты. С полей веяло холодом, на холмах светились огни солдатских костров, в переулках мычали коровы и гоготали стада возвращающихся домой гусей. Улицы были уже почти пусты, только на углах и на площадях усиливались караулы и конные патрули.
- Слышал ты этого умника из Цеханова? - заговорил Новаковский.
- Хороший игрок, знал, чем задеть за живое. Сумел увлечь даже депутатов.
- Говори этаким что-нибудь умное - зевают, а городи какую-нибудь чушь о неприкосновенной шляхетской свободе, щекочи их сказкой о равенстве с королями, вспоминай Александров Македонских, вставляй через два слова "добродетель", через каждые три "честь", через пять - "служение народу", через десять - "светлейшие представители народа", кричи при этом изо всех сил, размахивай руками, как ветряная мельница, так в конце концов они прослезятся от умиления и готовы даже качать тебя и объявить спасителем родины.
Заремба молчал, стараясь угадать причины его раздражения.
- Но избави бог полагаться на их восторги. Что сегодня решат, завтра готовы послать к черту, и всякое возражение называют тотчас же изменой или глупостью.
Он замолчал, так как пришлось проезжать по очень ухабистой мостовой.
- И опять оттянутся переговоры с Бухгольцем, - проговорил он огорченно. - Будут ждать, пока Меленсдорф захватит Варшаву, и только тогда поднимут вопли и слезы.
Заремба понял, как ему казалось, причину возмущения Новаковского и попробовал его утешить: