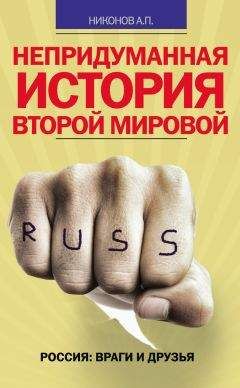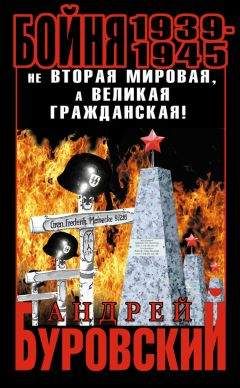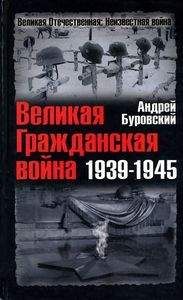От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
Глава 12. СССР после войны
Советская ядерная программа
«Отцом ядерной физики» считают британского барона Эрнеста Резерфорда, который опытом рассеяния альфа-частиц в 1911 году доказал существование в атомах положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов вокруг него и создал планетарную модель атома. Проблема расщепления атомного ядра с целью получения нового источника энергии начала азартно изучаться во всем мире.
В сентябре 1918 года был подписан декрет Советской власти о создании в Петрограде физико-технического отдела Государственного рентгенологического и радиологического института (ГРРИ) во главе с Абрамом Федоровичем Иоффе.
Выдающийся ученый Владимир Иванович Вернадский в 1922 году произнес оказавшиеся пророческими слова о «великом повороте в жизни человечества, когда оно получит атомную энергию». В январе 1922 года в Петрограде по его инициативе на базе разделившегося ГРРИ возникли Радиевый институт во главе с самим Вернадским и Государственный физико-технологический рентгенологический институт под руководством Иоффе. В 1925 году в институте Иоффе появился молодой сотрудник, которого звали Игорь Васильевич Курчатов.
Прорывным для ядерной физики оказался 1932 год. Сэр Джеймс Чедвик открыл нейтрон. Американский физикохимик Гарольд Юри получил тяжелый водород – дейтерий. Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон в Кембридже пучком высокоэнергичных протонов расщепили ядро лития, превращая его в гелий и другие элементы. А американец Карл Андерсон обнаружил позитрон.
Не удивительно, что в конце столь урожайного на открытия года Курчатов забросил изучение занимавшей его до этого физики полупроводников и полностью переключился на исследование физики атомного ядра. Организационно это сопровождалось приказом по Ленинградскому физико-техническому институту (ЛФТИ) от 16 декабря 1932 года «О создании „особой“ группы по ядру» под руководством Иоффе. Курчатов стал правой рукой академика. Фактическое руководство исследованиями перешло к Игорю Васильевичу с 1 мая 1933 года, когда группа была преобразована в отдел ядерной физики. Заказчиком исследований выступал Наркомат тяжелой промышленности, выделивший тогда ЛФТИ на работы по атомному ядру 100 тысяч рублей.
Исследования по физике атомного ядра начали разворачиваться и в других научно-исследовательских центрах СССР – Радиевом институте АН СССР (РИАН), московском Физическом институте АН СССР (ФИАН) и харьковском Украинском физико-техническом институте (УФТИ). Причем харьковчане поначалу вырывались вперед: именно в УФТИ впервые в Советском Союзе 11 октября 1932 года Антон Карлович Вальтер, Кирилл Дмитриевич Синельников, Александр Ильич Лейпунский и Георгий Дмитриевич Латышев – вслед за Кокрофтом и Уолтоном – расщепили ядро лития.
После прихода нацистов к власти в Германии в мире физики (и не только) началась большая миграция. От нацистов поспешили унести ноги многие выдающиеся ученые, особенно те из них, кто по классификации Гитлера и его сподвижников не принадлежал к «арийской расе». В 1933 году в США эмигрировал Альберт Эйнштейн, получивший должность профессора физики в Институте перспективных исследований в Принстоне.
Ядерные исследования заметно интернационализировались. Только в Советском Союзе с 1933 по 1940 годы состоялось пять ядерных конференций, в которых участвовали, помимо советских ученых, такие светила мировой науки, как Нильс Бор, Виктор Фредерик Вайскопф, Льюис Грэй, Фредерик Жолио-Кюри, Джон Кокрофт, Пьер Виктор Оже, Жан Батист Перрен, Рудольф Пайерлс, Вольфганг Паули, Поль Дирак, Франко Разетти, Гленн Сиборг и другие.
Ну а в Ленинградском физтехе Курчатов приступил к разработке методов искусственного ускорения заряженных частиц, создав в 1933 году ускорительную трубку, с помощью которой провел первые собственные эксперименты с протонами на литии и боре.
В 1934 году во Франции супруги Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность. В Риме начал опыты по изучению искусственной радиоактивности Энрико Ферми. Развивая пионерские исследования итальянца, Курчатов в 1935 году провел целый цикл исследований по облучению нейтронами ядер элементов, получая искусственно радиоактивные изотопы. В Англии венгерский физик Лео Сцилард получил в 1936 году патент на идею цепной реакции для атомной бомбы.
В 1937 году Виталий Григорьевич Хлопин, ставший директором РИАН, пригласил Курчатова запустить в действие создававшийся по проекту Льва Владимировича Мысовского циклотрон в Радиевом институте. В том же году циклотрон – пятый в мире (первые четыре были запущены в США) и первый в Европе – заработал. 17 марта 1937 года «Ленинградская правда» отметила пуск советского циклотрона статьей «Атомная пушка РИАНа». Первые ускоренные частицы на нем удалось получить в октябре-ноябре 1938 года.
В предвоенные годы в СССР были проведены масштабные исследования ядерно-физических процессов на различных веществах – литий, бор, золото, рутений и другие. Анатолий Петрович Александров, также работавший в ЛФТИ, а позднее возглавивший советскую Академию наук, подчеркивал: «Научный характер проводившихся у нас работ был примерно такой же, как в передовых лабораториях Запада».
Для советских контролирующих инстанций это было не так очевидно. Исследования «по ядру» оказались под угрозой закрытия как не приносящие практического результата. 5 марта 1938 года из ЛФТИ было отправлено письмо Молотову за подписями Иоффе, Курчатова, Алиханова, Дмитрия Владимировича Скобельцына, Льва Андреевича Арцимовича и других сотрудников института (всего было 23 подписи). Они доказывали настоятельную необходимость создания в стране более совершенной технической базы ядерных исследований, создания собственного циклотрона ЛФТИ, на который не хватало денег. Обращение к Молотову дало результат. Специально созданная комиссия Академии наук 17 июня 1938 года признала целесообразным сооружение в ЛФТИ еще одного, более мощного циклотрона для получения частиц с большой энергией.
25 ноября 1938 года Президиум АН СССР принял постановление «Об организации в Академии наук работ по исследованию атомного ядра». В академии была создана Комиссия по атомному ядру, которую возглавил директор ФИАН академик Сергей Иванович Вавилов. В нее вошли также Иоффе, Илья Михайлович Франк, Алиханов, Курчатов. В декабре Президиум Академии наук предложил перевести лабораторию Курчатова из ЛФТИ в ФИАН и построить циклотрон в Москве.
Решением правительства от 28 января 1939 года вся работа по исследованию атомного ядра была сосредоточена в Академии наук СССР, для чего ей выделялись дополнительные средства. ЛФТИ передавался из Наркомата среднего машиностроения в систему Академии наук. С 1 апреля 1939 года Президиум АН СССР утвердил Курчатова в должности заведующего физическим отделением РИАНа. Академик Николай Николаевич Семенов написал в Наркомат тяжелого машиностроения письмо, указав на возможность создания оружия фантастической силы.
В целях ускорения работ по использованию внутриатомной энергии Отделение геолого-географических наук АН СССР 25 июня 1940 года организовало группу под председательством Вернадского, в которую также вошли академики Ферсман и Хлопин. 12 июля академики направили письмо заместителю председателя СНК СССР Булганину, рассказав, что в США и Германии соответствующие работы ведутся в экстраординарном порядке, на них ассигнуются крупные средства.
Реакция правительства была оперативной. 30 июля решением Президиума Академии наук была создана Комиссия по урану (Урановая комиссия) под председательством Хлопина. В числе других крупных ученых в ее состав вошел Курчатов. Иоффе видел во главе советского атомного проекта Курчатова и его сотрудников Георгия Николаевича Флерова и Константина Антоновича Петержака, а также сотрудников Ленинградского института химической физики (ЛИХФ) Юлия Борисовича Харитона и Якова Борисовича Зельдовича, которые провели расчет цепной реакции деления урана и показали, что, обогащая природный уран его легким изотопом – ураном-235, можно получить взрывную реакцию.