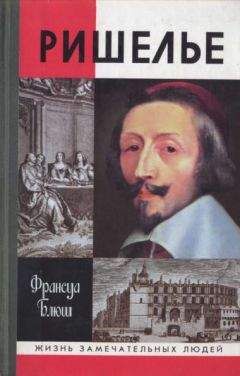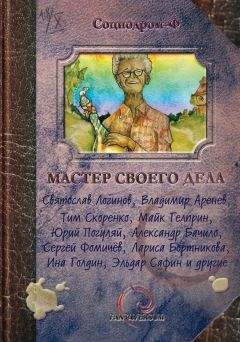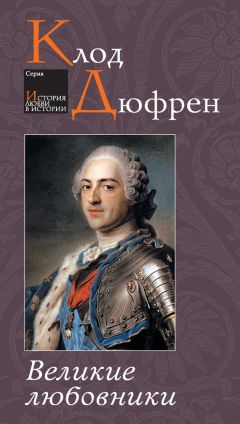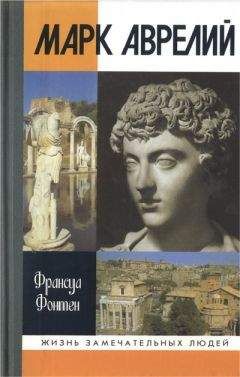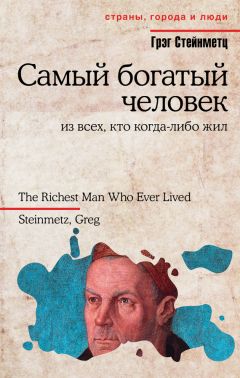Франсуа Блюш - Людовик XIV
Разве он не знает, что угодливый парламент отменил поочередно завещания его предка Генриха IV, а затем и его отца Людовика XIII? Как могло случиться, что у него, четырнадцатого по счету Людовика, исчезают после такого долгого и авторитарного правления все наследники и остается один-единственный, да еще в таком несмышленом возрасте? Такие мысли одолевают политика, одолевают старика: проблемы завтрашнего дня решать другим. На языке христианской морали, слегка перефразированной, это означает: я принял меры по спасению своей души для мира иного, а Господь пусть заботится о моих ближних и покровительствует Франции! А пока Людовик объявляет своих двух незаконнорожденных сыновей возможными наследниками (эдикт от июля 1714 года) и дает им титул принцев крови (декларация от 23 мая 1715 года), вводит их в совет, который предусматривается для периода Регентства (завещание от 2 августа 1714 года). Это последнее решение не выходит за обычные рамки королевских прав. Два других нарушают законы королевства.
Закон о наследовании, который указывает короля по праву, является действительно почитаемым, соответствует своду постановлений обычного права и неприкосновенен. Он собирает воедино несколько неоспоримых принципов: принцип наследования, принцип первородства, принцип наследования по мужской и по боковой линии, принцип невозможности использования короны по личному усмотрению монарха, принцип преемственности; наконец, принцип, которому непременно нужно следовать: принцип принадлежности к католической религии{120}. Невозможность использования по личному усмотрению монарха короны Франции — это благородный обычай, о котором Людовику XIV было известно. В 1667 году в своем «Трактате о правах королевы», обосновывающем знаменитое право наследования по старшинству, этот монарх подписал следующий текст, в котором не было и тени двусмысленности: «Основной закон государства устанавливает взаимную и вечную связь между монархом и его потомками, с одной стороны, и подданными и их потомками — с другой, путем своего рода контракта, который предназначает монарху управлять, а народам — повиноваться. Ни одна из сторон не может сама по себе и по своему личному усмотрению освободиться от столь торжественно принятого обязательства, по которому они обязывались помогать друг другу и взаимно сотрудничать»{144}. Король, следовательно, не имеет права располагать короной по своему личному усмотрению. Издавая эдикт в июле 1714 года, по которому могли бы быть призваны «к наследованию короны герцог дю Мен и граф Тулузский и их потомки по мужской линии в случае отсутствия принцев крови»{201}, Людовик XIV 1714 года вступает в противоречие с честным и весьма компетентным юристом — Людовиком XIV 1667 года.
Положения того же самого июльского эдикта нарушают также и принцип католицизма. По этому принципу «наследник должен быть рожден от брака, канонически безупречного»{120}. А ведь Людовик не был никогда женат на Атенаис де Рошешуар. Более того, в тот момент, когда родились герцог дю Мен и граф Тулузский, единственным канонически безупречным браком, к которому можно было отнести эти адюльтерные роды, был брак, связывающий перед Богом господина и госпожу де Монтеспан. И тем не менее парламент зарегистрировал совершенно незаконный эдикт. Конечно, Мадам Елизавета-Шарлотта отмечала, что уже существует довольно прочная связь между первой и второй семьей Его Величества и создается видимость, что они одна-единственная семья. Можно полагать, что подданные короля, привыкшие восхищаться и повиноваться, интересовались основными законами как прошлогодним снегом, таков был легкомысленный вывод Эрнеста Лависса. Но нельзя себе представить, чтобы 50 000 профессиональных юристов, судьи всех судов, 80 докладчиков в Государственном совете, 30 государственных советников и 6 министров не заметили нарушения, допускаемого этим королевским актом. А что говорить о декларации от 23 мая 1715 года? Она противоречит поговорке «Принцем крови рождаются, а не становятся». Сен-Симон будет неправ, когда будет сопровождать свои высказывания о «незаконнорожденных» только ругательными словами. Но он будет абсолютно прав, когда будет возмущаться таким нарушением французских законов.
Завещание короля также не выдерживало критики. Вуазен, новый канцлер, помог провести его в жизнь в тот же самый июль месяц 1714 года, который ознаменовал собой благородный уход Поншартрена. В воскресенье, 29-го, первый президент де Мем и генеральный прокурор д'Агессо были вызваны утром в Марли «по поводу чрезвычайно важного дела»{26}. Король поручил им добиться безоговорочной регистрации июльского эдикта; регистрация состоялась 2 августа, когда герцог дю Мен и граф Тулузский были приняты в парламенте со всеми почестями, оказываемыми принцам крови (еще до того, как им был пожалован этот титул), в присутствии герцога Бурбонского и принца де Конти, которые проглотили, не колеблясь, эту горькую пилюлю. Есть основания думать, что Людовик XIV также говорил с ними о завещании. Это тайное завещание, написанное целиком рукой завещателя, «спрятанное за семью печатями», будет спустя три недели доверено той же самой высокой административно-судебной власти и представлено «в канцелярию парламента, заложено в нишу каменной стены, закрытую железной дверью и огороженную железной решеткой, чтобы невозможно было к ней подойти. Дверь ниши будет закрыта на три разных замка; ключ от первого замка будет иметь первый президент, ключ от второго замка будет у генерального прокурора, ключ от третьего замка хранится у первого секретаря парламента»{26}. В то же самое время был сдан на хранение еще один государственный эдикт, датированный августом 1714 года, написанный в Версале. В нем говорилось, что король в завещании предусмотрел организацию будущего регентства на время малолетства его правнука и заранее подобрал регентский совет. «Мы считаем тем не менее, исходя из добрых и правильных соображений, что не стоит придавать гласности преждевременно выбор тех лиц, которых мы считаем способными выполнять столь высокие и важные обязанности»{26}.
Помимо всего прочего это завещание, хранимое в большой тайне, но которое многие современники могли почти полностью восстановить, приложив самую малость ума и использовав довольно полную информацию, идущую от придворных, подтверждало июльский эдикт. «Мы хотим, чтобы положения, содержащиеся в нашем эдикте от июля месяца этого года, в пользу герцога дю Мена и графа Тулузского были выполнены во всем объеме во все времена и чтобы никогда не было нарушено то, о чем мы заявили, такова наша воля»{144}. Регентский совет, который был предусмотрен, должен был включать герцога Орлеанского в качестве главы совета, а также герцога Бурбонского (по достижении им совершеннолетия), герцога дю Мена, графа Тулузского, канцлера, главу королевского совета финансов, государственных секретарей, генерального контролера, наконец, маршалов де Вильруа, д'Аркура, д'Юкселля, де Виллара и де Таллара. Дю Мен должен был следить «за безопасностью, охраной и воспитанием» молодого короля, а как только наступит день смерти завещателя, военное ведомство должно полностью перейти в подчинение к герцогу. Все дела должны будут решаться в совете «большинством голосов», а герцог Орлеанский будет иметь, в случае раздела мнений, право решающего голоса.
Теоретически все меры предосторожности были приняты, чтобы ограничить и контролировать поле деятельности, отведенное Филиппу Орлеанскому. На деле этот текст очень похож на текст завещания Людовика XIII, которое так же сковало действия Анны Австрийской регентским советом, о чем автор сего завещания не мог не подумать. Это подтверждает мысль, что у короля не было никаких иллюзий относительно будущего своих прожектов.
Ресурсы великой страны
После перечисления такого количества испытаний, трауров, бунтов, трудностей по традиции нужно было бы закончить рассказ о правлении и жизни Людовика XIV даже не просто грустной, а мрачной, даже зловещей нотой. Можно было бы подумать, читая некоторых авторов, что в самом конце царствования Людовика XIV, накануне его болезни и смерти все в высшей степени не стабильно, наблюдается брожение умов, чувствуется апатия в среде государственных служащих и в армиях, одолевает нищета в провинциях. К подобному преувеличению заявлений и описаний, кажется, читатели относятся спокойно, их также не смущает бум обогащения, который проявляется во времена регентства, как будто этот бум зародился спонтанно.
В действительности королевство Людовика XIV не разорено (за исключением его государственных финансов), не в тисках, и ему нечего страшиться за свое будущее. Узбек из «Персидских писем» Монтескье, осматривая Париж в период между Утрехтским и Раштадтским миром, не заметил той апатии, смиренности или задавленности в конце столь долгого царствования Людовика XIV, о которой нам сочинили легенду, и записал совершенно противоположные впечатления: «В Персии у людей радость не выражена на лице так, как у людей во Франции: у наших людей не наблюдается той свободы мышления и такого удовлетворенного вида, как у жителей всех сословий и рангов во Франции»{77}. А ведь тот, кто держит в руке перо перса, не кто иной как президент де Монтескье, который не боится пользоваться острием своей критики: он пишет так во времена регентства и мог бы без всякого риска описать все в более мрачных красках.