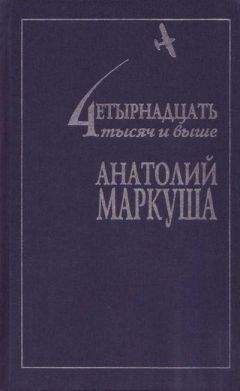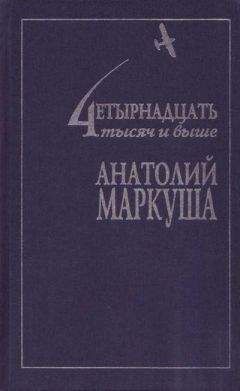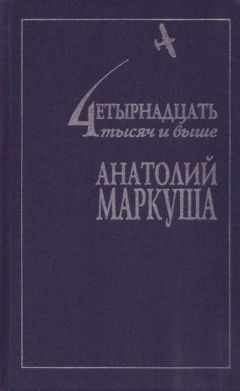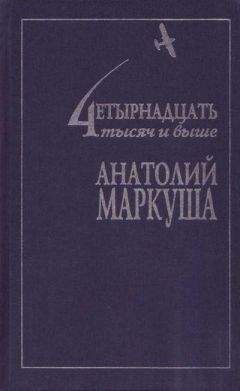Марк Галлай - Встречи на аэродромах
— Знаешь, — говорю я. — А ведь это, будь оно неладно, число — сто двадцать пять — я Юре сказал. И в планшет ему записал. Чтобы, в случае чего, сразу перед глазами было... В тот же вечер сказал...
Иванов мгновенно вышел из состояния дремоты, посмотрел на меня несколько секунд каким-то странным взглядом и тихим голосом произнес:
— Я тоже...
* * *...Берег Волги. Широкий заливной луг, от которого крутой стенкой поднимается тянущийся вдоль реки пригорок. На его вершине — небольшая круглая ямка, выдавленная в грунте приземлившимся космическим кораблем.
В нескольких шагах — сам корабль, откатившийся после первого касания немного в сторону. Он обгорел с одного бока — того, который находился спереди при входе в плотные слои атмосферы.
Вместо сброшенных перед посадкой крышек люков — круглые дыры.
Здесь же рядом, на сухой прошлогодней траве бесформенная куча сероватой материи — сделавший свое дело парашют.
В обгоревшем шаре «Востока» мне видится что-то боевое. Как в только что вышедшем из тяжелого сражения танке. Даже дыры от люков вызывают ассоциации с пробоинами.
А кругом — зеленая, весенняя степь, видимая с этой высотки, наверное, на десятки километров.
Если специально искать место для сооружения монумента в честь первого полета человека в космос — вряд ли удалось бы найти более подходящее!
Королев несколько минут простоял молча.
Смотрел на корабль, на волжские просторы вокруг...
Потом провел рукой по лбу, надел шляпу, повернулся к группе окруживших корабль людей — участников этой работы, прилетевших к месту посадки «Востока» на двух вертолетах, — и... принялся кому-то выговаривать, что-то поручать, отменять, назначать сроки... Словом, вернулся в свое нормальное рабочее состояние.
До полета «Востока-2» оставалось неполных четыре месяца...
У тети на именинах
— Мы с вами определенно где-то встречались, — сказал Андроников. — Не могу вспомнить, где именно, но помню, было это в домашней, уютной обстановке. Знаете, что-то типа «у тети на именинах».
С этих слов начался наш разговор. Дело было в один из тех холодных зимних вечеров, когда особенно тянет к теплу, уюту, общению с друзьями. Самые трудные годы войны были уже позади. Мы собрались у Татьяны Стрешневой — жены моего погибшего на войне школьного товарища, журналиста и поэта Леонида Кацнельсона — в большом сером доме в Глинищевском переулке (ныне улице Немировича-Данченко), населенном артистами, режиссерами, музыкантами и прочими представителями разного рода изящных искусств. Строго говоря, хозяйкой дома Татьяна Валерьевна могла именоваться лишь условно. Квартира, в которую мы пришли, принадлежала не ей, а ее находившимся в отъезде друзьям.
Зима в тот год выдалась холодная. Впрочем, может быть, она только казалась такой холодной потому, что топили еще далеко не всюду, и притом более чем экономно, — городское хозяйство жило отнюдь не по нормам мирного времени. И многие жители насквозь промерзших московских квартир норовили обогреться у знакомых, которым в этом смысле повезло хоть не намного больше.
Квартира, где мы собрались, была, что называется, авантажная: с высокими потолками, множеством фотографий на стенах, пухлой мебелью, тяжелыми оконными портьерами. Но все эти подробности тогда ни на кого особого впечатления не производили — за прошедшие годы жизнь заставила людей приблизиться к познанию истинной меры вещей, отойти от которого они еще не успели. Бог с ней, с обстановкой. Главное — было бы более или менее тепло.
Излагая программу предстоящего вечера, Татьяна начала с упоминания о ржаном пироге — одном из яств, которыми в то не очень сытое, карточное время изобретательные московские хозяйки потчевали своих гостей.
Означенный пирог представлял собой ломти нормального черного хлеба, поджаренные на растительном масле. И я прошу читателя не относиться к этой расшифровке пренебрежительно: «Скажите, мол, какой деликатес — поджаренный хлеб!» По тому времени это был пир.
Упомянув, таким образом, об ожидающей нас пище телесной, Татьяна перешла к пище духовной:
— Приходи... будут интересные люди. Андроников будет. Ты ведь знаешь Андроникова?
Еще бы мне не знать Ираклия Андроникова!
В последние предвоенные годы трудно было назвать что-нибудь более популярное у московской публики, чем его устные рассказы. Сейчас эта популярность стала традиционной, беспроигрышно надежной, я бы сказал — классической. Но и молодой Андроников не имел оснований обижаться на московскую публику: его уникальное дарование она оценила сразу и в полной мере.
Впервые меня повел на его выступление Дмитрий Александрович Кошиц — летчик, планерист, испытатель едва ли не всех существовавших советских автожиров (был в свое время, до появления вертолетов, такой винтокрылый летательный аппарат). Кроме своих незаурядных летных заслуг и качеств Кошиц был известен и любим коллегами как веселый, заводной, преисполненный доброго юмора человек. На традиционных тушинских воздушных парадах в День авиации он был бессменным, как сказали бы сейчас, радиокомментатором. И его свободные (тут уж «по бумажке» не прочтешь!), смешные и в то же время очень информативные «конферансы» украшали парад, пожалуй, не в меньшей мере, чем искусство работавших в воздухе пилотов, планеристов и парашютистов. Так что если кто-нибудь надумает писать историю отечественного радиорепортажа, то начинать ее придется не с патриарха футбольных комментаторов Вадима Синявского, а с нашего, авиационного конферансье Дмитрия Кошица.
Не было в авиации человека, который не знал бы сочиненного в шутку — а может быть, и не совсем в шутку — двустишия:
А что касается до Кошица,
То Кошиц никогда не укокошится.
К несчастью, стихи эти не оказались пророческими: до конца войны Дмитрий Александрович не дожил...
Вот этот-то человек в один прекрасный день и спросил меня:
— Ты слышал Ираклия Андроникова?
И, узнав, что нет, не слышал, в тот же вечер потащил меня на улицу Герцена, в клуб Московского университета.
Даже если бы я был способен описать своими словами, как рассказывает Андроников (а я на это решительно не способен!), то, к счастью, никакой надобности в таком описании нет: сейчас, отчасти благодаря телевидению, его аудитория расширилась безгранично. Хотя мне кажется, что телевизионный, записанный на пленке Андроников чем-то неуловимо отличается от Андроникова «живого». Наверное, тем самым, из-за чего в наш век кино и телевидения продолжает жить и здравствовать театр...
Помню, в тот вечер, когда Кошиц привел меня на его концерт, Ираклий Луарсабович рассказывал, как очутился «в первый раз на эстраде». На меня этот рассказ произвел особое впечатление еще и потому, что несколькими годами раньше мне довелось самому слышать ленинградского музыковеда Соллертинского, о котором идет речь в этом рассказе. Правда, попал я на выступление Соллертинского совершенно случайно, ибо в юности, к сожалению, был достаточно далек от музыки, как, впрочем, и от большей части других составляющих человеческой культуры, за исключением заполнившей меня целиком авиации. Но — случайно ли или не случайно — вступительное слово Соллертинского перед каким-то концертом в Ленинградской филармонии я выслушал.
Так вот, в исполнении Андроникова, при всей его пародийности, Соллертинский показался мне, если можно так выразиться, еще более Соллертинским, чем в своем собственном исполнении.
...Потом я не раз слушал Андроникова. Старался не пропустить ни одного его приезда в Москву. Не без некоторого удивления обнаружил, что при многократных повторных прослушиваниях одного и того же рассказа интерес к нему не испаряется, как этого вроде следовало бы ожидать, а, напротив, усиливается. Наверное, одна из причин этого неожиданного явления заключается в том, что Андроников каждый раз рассказывает чуть-чуть по-новому (чем отличается от великого трагика Сальвини, который, по свидетельству Остужева, переданному нам тем же Андрониковым, этого делать не умел). Словом, я быстро стал верным поклонником дарования Ираклия Луарсабовича.
Но случая познакомиться с ним шее как-то не представлялось — да, в сущности, и не должно было представиться: очень уж на разных, нигде не пересекающихся жизненных орбитах мы с ним вращались.
И вдруг, пожалуйста, — вот он, такой случай: «Приходи. Будет Андроников».
* * *Пришел я в тот вечер после всех — долго добирался со своего аэродрома в Москву, на Глипищевский переулок.
Раздеваясь в передней, я потянул носом и убедился, что по части ржаного пирога все выданные мне авансы полностью выполнены. А в это время Андроников — мне потом рассказали об этом другие гости, — услышав, как я здороваюсь с хозяйкой, насторожился и решительно сказал: