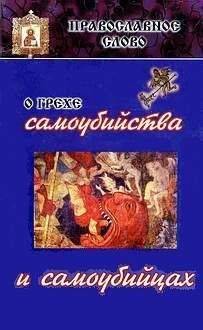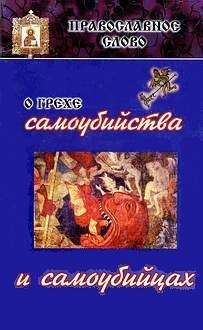Соломон Волков - История культуры Санкт-Петербурга
Нуреев, который дневал и ночевал в доме у Пушкина, всегда повторял, что в своем учителе он нашел второго отца. Пушкин неуклонно поощрял смелые устремления Нуреева к расширению экспрессивных границ мужского танца и однажды буквально выходил своего воспитанника после того, как тот во время представления разорвал связку правой ноги до кости и опасался, что уже никогда не сумеет выйти вновь на сцену.
Пушкин также неизменно защищал Нуреева во время бесчисленных конфликтов того с балетным начальством. Эти конфликты становились все более серьезными. Кировский балет, хотя во многих отношениях и парил над повседневной прозаической ленинградской жизнью, все же оставался микрокосмом советского государства, одним из его бесчисленных «коллективов». В нем силен был дух иерархического послушания, усугубленный традиционным русским бюрократизмом и сдобренный советской идеологией. Идеологическая обработка пронизывала все, дисциплина и конформизм ценились превыше всего, на проявления независимости смотрели с подозрением.
Взрывчатый Нуреев, эмоционально схожий с героями любимого им Достоевского (на Западе он впоследствии станцует роль князя Мышкина в балете «Идиот» по Достоевскому, поставленном сотоварищем по эмиграции из Кировского балета Валерием Пановым на музыку Шостаковича), постоянно выслушивал все более крикливые упреки в том, что он, несмотря на все его феноменальные профессиональные успехи, «отравляет атмосферу» и «разлагает коллектив». Нуреев чувствовал, что начинает задыхаться.
* * *Возможность вырваться из цепких клещей советской системы представилась Нурееву в 1961 году в Париже, во время гастролей там Кировского балета, когда он в аэропорту Ле Бурже совершил свой легендарный «прыжок на свободу», отбившись от двух дюжих советских телохранителей. Это была одна из величайших сенсаций господствующей в культуре холодной войны. Эхо этого рокового события громоподобно отозвалось в Ленинграде. Первый побег артиста из Союза той эпохи, смелый рывок Нуреева бесконечно обсуждался не только в балетных, но и в интеллектуальных кругах Ленинграда, несмотря на экстраординарные усилия советских властей замолчать болезненный для них инцидент и заставить бесчисленных поклонников Нуреева навсегда забыть о своем кумире.
Вскоре новое событие взбудоражило культурную элиту города: осенью 1962 года вслед за триумфальным визитом в Ленинград Стравинского сюда прибыл 58-летний Джордж Баланчин со своей труппой «Нью-Йорк сити балле». Баланчин, хоть и не видел родные берега 38 лет, вовсе не стремился попасть туда вновь. Для него, убежденного антикоммуниста, все еще оскорбительным представлялось переименование города в Ленинград. Вдобавок он серьезно опасался, что советские власти интернируют его в России.
Когда под сильнейшим давлением Государственного департамента США Баланчин все-таки отправился в Россию, визит оказался для него чрезмерно утомительным и скорее депрессивным; ему казалось (надо думать, не без оснований), что за ним беспрестанно следят и что его гостиничный номер прослушивается; его раздражали бессмысленные «эстетические» дискуссии и стычки с чиновниками Министерства культуры и разгневало и глубоко опечалило превращение властями грандиозного Казанского собора на Невском проспекте в Музей истории религии и атеизма.
Но для артистической молодежи Ленинграда гастроли театра Баланчина, как и выступления дирижировавшего своими композициями Стравинского, стали определяющими событиями того периода. В сущности, одним из самых ошеломительных моментов визита театра Баланчина была для нас презентация им на сцене Кировского театра балета на музыку Стравинского «Агон». Старшее поколение не приняло этой постановки, язвительно обозвав ее «Агонией» и брюзжа, что американцы не столько танцуют, сколько «решают ногами алгебраические задачи». И танцы, и музыка казались им чересчур абстрактными, холодными; в разговорах надоедливо жужжало вездесущее и уже до тошноты навязшее в зубах обвинение в «формализме».
Но нам, молодым музыкантам и танцорам, «Агон» дал головокружительное ощущение почти нестерпимой свежести. Во время представления этого балета даже сцена Кировского театра выглядела как-то по-иному, как будто гигантская влажная губка смыла с нее запыленные декорации, от которых нас мутило. Сексуальность «Агона» (вызывавшая протесты старших) нам казалась тоже освежающе естественной, дающей представление об обществе, где нет стольких ограничений. И сверх всего – мы услышали в «Агоне» джазовые ритмы, и в этом тоже был сексуальный кодовый сигнал, так же как в джазовых передачах «Голоса Америки» или в глянцевых обложках журнала «Америка», официальном пропагандистском издании.
И еще одно: открыв для себя «Агона» именно в Ленинграде, мы впервые остро осознали нереализованные возможности петербургского авангарда.
Некоторые говорили мечтательно: «Баланчин привез нам наше будущее, которому не дали расцвести в России». Баланчин и Стравинский олицетворяли петербургскую культуру в ее расцвете, блестящее космополитическое искусство, добившееся мирового успеха и признания.
Оказалось, что петербургский миф открыто реализовывался на международной арене, а не был лишь достоянием отечественного подполья. Фигура Ахматовой, высившаяся в Ленинграде в гордом одиночестве, как осколок безвозвратно ушедших призрачных времен, внезапно предстала включенной в глобальный культурный контекст, и этот неожиданный сдвиг придавал новую витальность жизни петербургского мифа. Он тоже становился для нас современным и модернистским.
Нельзя переоценить и эффект чудесной персональной «материализации» титанов мирового авангарда в России. Рассказы об их реакциях, оценках, бонмо мгновенно облетели интеллектуальные круги Ленинграда, став на многие годы источником и барометром актуальных мнений и местного «хорошего вкуса». Самый их облик, одежда, причуды поведения были объектом пересудов. Иосиф Бродский вспоминал, как, придя в гости к Ахматовой, объявил, что только что увидел на улице Стравинского, и начал его описывать – маленький, сгорбленный, шляпа замечательная: «И вообще, говорю, остался от Стравинского один только нос». – «Да, – добавила Ахматова, – и гений».
Долгое время о западной ветви петербургского модернизма в России нельзя было даже говорить вслух, во всяком случае с похвалой. Когда двум ее ведущим представителям – Стравинскому и Баланчину – было дозволено триумфально вернуться, хоть и на короткий срок, в родной город, это вызвало в творческих кругах Ленинграда прилив оптимизма и для многих стало толчком к развитию собственных поисков и экспериментов.
Так, для 35-летнего Юрия Григоровича, в то время начинающего хореографа Кировской труппы, выступления театра Баланчина в Ленинграде стали еще одним подтверждением его убеждения в гибельности влияния хореодрам на судьбу русского балета. В своем недавнем триумфе, балете «Легенда о любви», Григорович попытался, впервые после долгих лет забвения, вернуться к сложным хореографическим формам, выведя на сцену Кировского театра прихотливые танцевальные комбинации в стиле Фокина. Григорович все громче и упорнее говорил о том, что первыми мастерами бессюжетного танца были Фокин и Лопухов, что русскому балету надо у них учиться, а ритуальные разговоры о «формализме» наконец прекратить.
Другим хореографом Кировского театра, сумевшим использовать визит американской балетной труппы в Ленинград как оружие в собственных творческих схватках, стал ровесник Баланчина, неутомимый, пружинистый, напряженный Леонид Якобсон. Модернистский гений Кировского (его здесь называли Шагалом балета – враги саркастически, поклонники восторженно), Якобсон в то время с трудом отбивал атаки консервативной критики на свой только что выпущенный танцевальный спектакль, основанный на футуристической комедии Маяковского «Клоп», в котором, как всегда у Якобсона, были причудливо смешаны элементы пантомимы, свободного танца à la Айседора Дункан, импрессионизма Фокина и гротескной образности, граничащей с сюрреализмом.
Якобсон всегда считался enfant terrible ленинградского балета. На его эскапады смотрели сквозь пальцы, и это позволяло ему крейсировать в самых предательских водах. Его «одержимость» была притчей во языцех, и я сам был свидетелем тому, как Якобсон в лицо обзывал культурных бюрократов идиотами, а те лишь пожимали плечами: «сумасшедшему» Якобсону прощалось то, за что другие не сносили бы головы.
Наиболее смелые и любящие риск танцовщики Кировской труппы были от Якобсона без ума; многим из них он дал возможность станцевать самые смелые партии их жизни. Для расцветающей романтической звезды ленинградского балета, 21-летней Натальи Макаровой, Якобсон создал в своем сатирическом «Клопе» лирическую роль Зои – хрупкой, наивной работницы на высоких каблуках и в коротком платьице в горошек, из-за неразделенной любви кончавшей жизнь самоубийством. Это был настоящий, выхваченный из жизни типаж 60-х годов – угловатая, независимая и несчастная женщина, разительно схожая с персонажами современных ленинградских пьес Александра Володина. Макарова неоднократно повторяла, что эта роль в балете Якобсона стала для нее поворотным моментом, освободив ее от канонов академических формул и открыв современным влияниям.