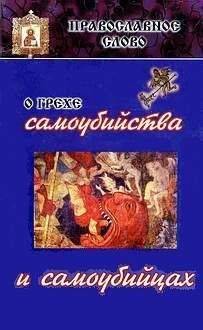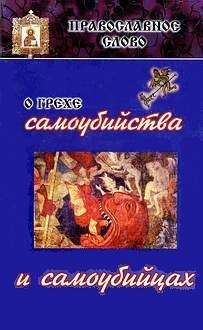Соломон Волков - История культуры Санкт-Петербурга
Я хотел поставить Вас в известность, господин Президент, о беспокойстве, которое мы испытываем. Мы не можем не знать, как трудно бывает внутри любой общественной системы пересматривать уже принятые решения. Но, зная Вашу глубокую человечность и Вашу заинтересованность в усилении культурных связей между Востоком и Западом в рамках идеологической борьбы, я позволил себе послать Вам это сугубо личное письмо, чтобы просить Вас во имя моей искренней дружбы к социалистическим странам, на которые мы возлагаем все надежды, выступить в защиту очень молодого человека, который уже является или, может быть, станет хорошим поэтом».
Ясно, что Сартр, обрушившийся в свое время на Набокова за то, что тот, в отличие от советских писателей, ничем не способствует построению социалистического общества, мог отправить подобное прошение (впервые извлеченное из партийного архива московской «Литературной газетой» в 1993 году) только в результате экстраординарного общественного давления. В Кремле, по-видимому, это поняли. Во всяком случае, в ноябре 1965 года Бродский был досрочно возвращен в родной город из северной ссылки.
А через несколько месяцев его (как и многих из нас) постиг жестокий удар: 5 марта 1966 года, день в день 13 лет спустя после смерти Сталина, от сердечного приступа умерла 76-летняя Ахматова. Она так и не дождалась официальной публикации своего «Реквиема» или полного текста своего шедевра – «Поэмы без героя». Но Ахматова знала, что эти произведения не исчезнут бесследно, так как к этому времени они буквально впитались в кровь русской интеллектуальной элиты. Ахматова также знала, что она оставляет за собой созданное ею поэтическое движение, молодежным ядром которого являлся – как она говорила – «волшебный хор», ее волею и по ее замыслу включенный в петербургский литературный миф и состоявший из Бродского, Бобышева, Наймана и Рейна. (После смерти Ахматовой за группой закрепилось также оброненное Бобышевым определение – «ахматовские сироты».)
Бродский вспоминал, что, когда на похоронах Ахматовой кто-то начал свою надгробную речь словами «С уходом Ахматовой кончилось…» – все в нем этим словам воспротивилось: «Ничто не кончилось, ничто не могло и не может кончиться, пока существуем мы. Волшебный мы хор или не волшебный. Не потому что мы стихи ее помним или сами пишем, а потому что она стала частью нас, частью наших душ, если угодно».
Согласно воле Ахматовой, ее отпевали в Никольском соборе, куда морозным ясным утром 10 марта набилась большая толпа (говорили, что тысячи полторы). Большей частью это была ленинградская молодежь; старушка нищенка у собора приговаривала: «Идут и идут, – а все ее ученички!» Гражданскую панихиду устроили в здании Союза писателей. Сын Ахматовой, дергано-резкий Лев Гумилев, бывший узник сталинского концлагеря, а к тому времени известный ученый-историк, попросил меня сыграть что-нибудь на этой церемонии, добавив поспешно: «Только хотелось бы православного композитора». Мы согласились на Прокофьеве. Но вечером в тот день, после похорон на приватных поминках, где Гумилева уже не было, мы играли Баха, чьи творения Ахматова очень любила.
Музыка играла существенную роль в повседневной жизни Ахматовой. Со мной она говорила, среди других, о Шумане, Мусоргском, Чайковском, особенно много о Шестой симфонии последнего, представлявшейся ей подходящей в качестве музыки к возможному балету по ее «Поэме без героя». Вместе с Ахматовой мы слушали западные записи «Коронации Поппеи» Монтеверди и «Дидоны и Энея» Перселла – оперы, весьма близкой ее сердцу, в частности, и потому, что Ахматова, мне кажется, внутренне сопоставляла себя с Дидоной (считая своим Энеем сэра Исайю Берлина). Ахматова часто упоминала также Шостаковича и Стравинского, книги разговоров которого с Робертом Крафтом она внимательно прочла, обращая особое и пристрастное внимание на неточности в описании общих знакомых по старому Петербургу.
Общение с Ахматовой, которой не нужно было прилагать абсолютно никаких усилий, чтобы выглядеть одновременно невероятно величественной и совершенно естественной, неминуемо протекало как бы в двух планах – бытовом и трансцендентном. Это точно сформулировал Бродский: «Конечно же, мы толковали о литературе, конечно же, мы сплетничали, пили водку, слушали Моцарта и смеялись над правительством». И в то же самое время не только мощь и блеск ума Ахматовой, но и ее особое положение свидетеля русской истории и создателя и хранителя петербургского мифа приводило к тому, что, по словам Бродского, «каким-то невольным образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю, к этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих – почти всех – его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной щедрости, от нее исходивших».
* * *Многие заметили, что сразу после смерти Ахматовой нравственная атмосфера в Ленинграде существенно переменилась: ушла эталонная фигура, связывавшая времена, на которую неминуемо оглядывались и суждений которой неизменно ждали и инстинктивно опасались. Это еще более усугубило и без того сумрачное настроение в городе. Ленинградские партийные сатрапы того периода отличались от московских руководителей еще большей реакционностью, агрессивной злобностью, мстительностью и своеволием. Это проявлялось постоянно, и в важных решениях, и в мелочах, создавая общий нервозный и одновременно унылый фон.
Когда в Ленинграде власти запрещали показывать в прокате западный фильм, разрешенный в Москве, и кто-нибудь выражал по этому поводу свое недоумение, то он мог услышать в ответ самодовольное: «Ленинграду, товарищи, не нужно повторять ошибок Москвы!» Директора Ленинградской филармонии выгнали с работы только за то, что исполнение западным ансамблем религиозной кантаты Баха случайно пришлось на православную Пасху – праздник, даже память о котором здесь старались вытравить из народного сознания.
Ленинградский художник Гавриил Гликман, чьи нонконформистские полотна нравились Шостаковичу, вспоминал, как однажды (это было в период правления одного из самых непредсказуемых и тупых ленинградских боссов, Василия Толстикова) композитор сказал ему с тоской и грустью: «Мне кажется, что вам нужно хорошо спрятать ваши работы. Сделать яму, потом забетонировать ее и сложить туда ваши холсты. Кто знает – сегодня Толстиков в хорошем настроении, а завтра все это будет уничтожено…» (О Толстикове, в частности, рассказывали, что когда он принимал делегацию американских конгрессменов и один из них поинтересовался, каковы показатели смертности в городе, то Толстиков объявил уверенно: «В Ленинграде смертности нет!»)
На Бродского, после его возвращения из северной ссылки, в Ленинграде пытались воздействовать привычным методом кнута и пряника. Ему дали возможность напечатать несколько стихотворений, и в то время как в провинции людей арестовывали за хранение машинописной копии стенограммы суда над ним, в Ленинграде ему предложили выпустить сборник его стихов. Но вскоре планировавшийся сборник был отменен.
Подобная игра в опасные кошки-мышки продолжалась до мая 1972 года, когда Бродского неожиданно и срочно вызвали в ОВИР и предложили немедленно убираться на Запад. Когда Бродский спросил: «А если я откажусь?» – полковник КГБ ответил с недвусмысленной угрозой: «Тогда, Бродский, у вас в чрезвычайно обозримом будущем наступит весьма горячее время».
В канун отъезда Бродский обратился к Генеральному секретарю Коммунистической партии СССР Брежневу с письмом, в котором писал: «Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое».
Ответа от Брежнева Бродский не получил. Если тот и прочел письмо поэта, то ему должен был показаться странным и непривычным его тон. Бродский писал Генеральному секретарю, в частности, следующее: «Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело». В сравнении с этими философскими рассуждениями письмо Сартра в защиту Бродского демонстрирует гораздо большее понимание того, каким образом функционирует мозг советского аппаратчика. Так или иначе, Бродский уже в июне оказался в Австрии, а затем и в США, где он в итоге обосновался в Нью-Йорке.
В Ленинграде остались его пожилые больные родители, которых Бродскому уже не довелось увидеть: советские власти никогда не разрешили им поехать навестить сына в Америку, а когда они умерли, мстительно запретили Бродскому приехать на их похороны в Ленинград. Он оставил также позади 4-летнего Андрея – сына его и своенравной художницы Марины Басмановой, несчастной любви поэта, которой Бродский посвятил изданный в 1983 году беспрецедентный в русской поэзии сборник, названный им «Новые стансы к Августе»: 80 любовных, написанных в течение 20 лет, стихотворений.