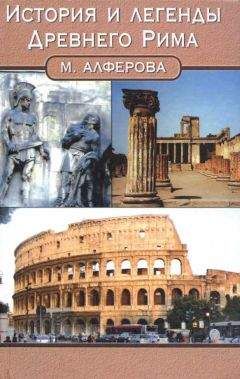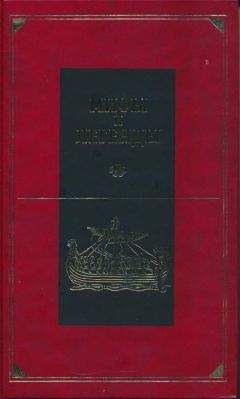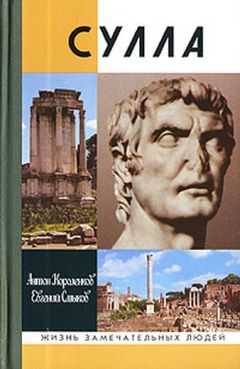Политическая история Римской империи - Циркин Юлий Беркович
В последней трети II и первом двадцатилетии I в. до н. э. резко возрастает роль народных трибунов, которые из сравнительно скромных защитников плебса превращаются в вождей римской демократии. В определенные моменты именно они, а не консулы становятся чуть ли не фактическими руководителями государства. Так было во времена Гракхов в 30–20-х гг. II в. до н. э. Очень близко к этому было положение Сатурнина в самом конце этого века и Ливия Друза в 91 г. Велика была роль трибуна и в событиях 88 г. до н. э., положивших начало первой гражданской войне. В противоположность трибуну сенат выдвигает своих лидеров. Они есть и у всадничества. Положение еще более обостряется после фактического поражения Рима (несмотря на внешнюю победу) в Союзнической войне, когда римляне были вынуждены предоставить римское гражданство всем италикам. Это еще больше увеличило масштабы борьбы. Но главное, что после этого изменилась внутренняя суть римского государства, и старое государственное устройство не смогло приспособиться к новым реалиям. Кризис Римской республики (об этом уже шла речь) перерос в ее агонию.
В этих условиях существовавшие в неписаной конституции Рима опасные для республиканского устройства государства моменты стали усиливаться. В первую очередь это касается личностного момента в политической жизни. Усиление проявилось во всем — в литературе (создание римской лирики), искусстве (появление римского портрета), историографии (возникновение жанра биографии), но сейчас, что особенно важно, — ив политике. Раньше для римского менталитета было характерно выдвижение на первый план интересов не столько отдельной личности, сколько римского народа. Как уже говорилось, римляне видели преимущество своего государства в его постепенном становлении. Его строило множество сменявших друг друга поколений в лице своих наиболее выдающихся мужей. И каждый такой муж в идеале сознавал, что его деятельность, даже самая значительная, лишь кирпичик в становившемся все более величественном здании вечного Рима и его державы. За большие заслуги государство платило триумфами и почестями, в том числе избранием на те или иные должности, величественными памятниками и религиозными молениями, всяческим прославлением. Но даже когда триумфатор подобно Юпитеру ехал на своей величественной колеснице по улицам Рима, специальный раб шептал ему на ухо: «Помни, что ты человек», и после триумфа он действительно снова становился обычным человеком. Никакие заслуги не давали оснований для резкого возвышения такого деятеля над народом и сенатом. Характерно, что Катон, создавая первую историю Рима на латинском языке, вообще (насколько мы можем судить по сохранившимся отрывкам) не называл имен, ибо, по его мнению, героем, создававшим величие римского народа, был сам римский народ.
Теперь положение меняется. Политическая борьба индивидуализируется. Этот процесс начинается уже в 30-х гг. II в. до н. э., когда борьба за аграрную реформу ассоциируется с именем Тиберия Гракха. Появляется и понятие «гракханцы». Разумеется, и раньше те или иные реформы связывались с конкретными именами; в Риме вообще было правило, что закон носил родовое имя его инициатора. Так, аграрный закон, послуживший образцом для Тиберия Гракха, изданный по инициативе Лициния и Секстия, носил их имена, но не было «лициниевцев» или «секстиевцев», а имелось сословие плебеев, лидером которого и выступали эти трибуны. Теперь же сторонники аграрной реформы являлись приверженцами не вообще крестьянства, а именно Тиберия, а затем Гая Гракха. И дело не ограничилось только выдвижением на первый план конкретной личности, в ходе борьбы за свои законопроекты эти личности сочли возможным выступить против политических традиций и порядков. Исходя из концепции народного суверенитета и верховенства народа над всеми другими составляющими политическую конструкцию Римской республики, они нарушили традиционные прерогативы сената и частично магистратов и вопреки существовавшим издавна правилам концентрировали в своих руках несколько должностей, а Гай Гракх в 122 г. даже на некоторое время покинул Рим и уехал в Африку, хотя по закону не имел права этого делать.
С течением времени индивидуализация политической борьбы усиливается. Она все более и более предстает не как борьба «партий» или отдельных группировок, а как борьба личностей. Наряду с «партиями» популяров и оптиматов, которые как бы канализируют политическую деятельность, придавая ей популярский (опора на комиции) или оптиматский (опора на сенат) характер, появляются личные «партии» — сулланцы, марианцы, цезарианцы и т. д. Они действуют, если можно так выразиться, в рамках «больших партий», но последние лишь оформляют политическую борьбу. Сама же борьба становится полностью личностной. После Союзнической войны, когда наступает агония республики, борьба идет не между «партиями» или сословиями, а между личностями — Марием и Суллой, Цезарем и Помпеем, Октавианом и Антонием. Политические деятели могли заключать временные союзы, и это союзы именно между отдельными мужами с их клиентелами, а не относительно крупными политическими силами. Таковыми были первый триумвират, вообще частный союз Цезаря, Помпея и Красса, и второй, объединивший Октавиана, Антония и Лепида и имевший уже официальный характер. Отметим, что хотя первый триумвират формально был лишь объединением трех друзей, на деле он играл большую роль, чем официальные власти. Сама же борьба становится все более беспринципной. Если Марий и Сулла еще сражались за какие-то принципы, то в следующем поколении ни о каких принципах речи практически не было и борьба шла исключительно за личную власть. Еще долго в римской политической жизни оставались «белые вороны», придерживавшиеся тех или иных идеалов, как, например, последние республиканцы Катон Младший или Брут с Кассием, но при всем к ним уважении их роль в реальной борьбе становилась все более мизерной, и они были обречены на поражение.
Впрочем, роль политических личностей не была бы столь преобладающей, если бы они одновременно не выступали как командующие армиями. В древности гражданский статус и военная служба были тесно взаимосвязаны, но в Греции в условиях кризиса полиса центр тяжести в военной сфере все больше сдвигается с гражданского ополчения в сторону наемной армии. В эллинистических государствах Востока она становится полностью наемной. В Риме такого нс произошло, и армия остается частью гражданского общества. Легионы набираются только среди граждан, а союзники включаются лишь во вспомогательные части; позже эти части формируются из провинциалов, которые после окончания службы приобретают римское гражданство, так что и они в перспективе являются частью гражданского коллектива. Но реальная роль армии в гражданской жизни меняется.
В конце II в. до н. э. Марий провел ряд мероприятий, в совокупности составлявших важную военную реформу. С социально-политической точки зрения важнейшей ее частью являлся новый принцип набора легионеров. Если раньше, начиная со времени Сервия Туллия, он проводился в соответствии с имущественным цензом и основу армии фактически составляли лица среднего класса (его численное уменьшение и стало толчком для проведения аграрной реформы), то теперь в легион мог вступить любой желающий независимо от его имущественной принадлежности. И в армию стали вступать в основном пролетарии. Они не потеряли стремления улучшить свое материальное положение, особенно получить землю, после увольнения из армии, но достичь желаемых целей могли только при помощи своего полководца, и чем авторитетней был он, чем больше имел реальной власти, тем легче воинам и ветеранам было добиться своих целей. Между полководцем и воинами возникает нечто подобное патроно-клиентской связи. Сначала действующая армия еще оставалась вне игры, но ветераны уже приобретали огромную роль и в ряде случаев решали исход политической борьбы. Позже в борьбу вступила и действующая армия во главе со своим полководцем. Решающим в этом отношении стал 88 г. до н. э., когда впервые в римской истории армия во главе с Суллой штурмом взяла Рим.
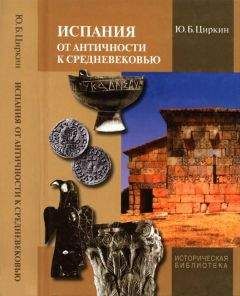
![Э. Гиббон - История упадка и крушения Римской империи [без альбома иллюстраций]](/uploads/posts/books/184344/184344.jpg)