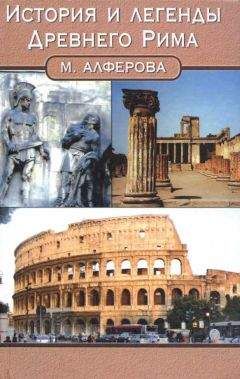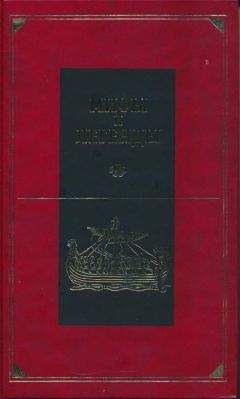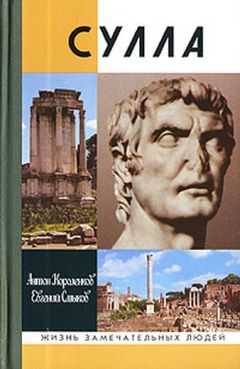Политическая история Римской империи - Циркин Юлий Беркович
Империй был неоднороден. Консул обладал большим империем (imperium maius), чем претор. В случае назначения диктатора тот обладал высшим империем (summum imperium). В такой ситуации ограничения империя даже в Городе либо не действовали вовсе, либо были значительно ослаблены. Обладатель более высокого империя мог вмешиваться в дела того, кто имел меньший. Империй могли получать также бывший консул (проконсул) и бывший претор (пропретор). Первоначально предоставление такого империя было делом эпизодическим, в зависимости от необходимости, а затем стало постоянным явлением. В чрезвычайных случаях сенат мог дать проконсульский империй (imperium proconsulare) частному лицу. Такой империй, в отличие от консульского или преторского, был не ограничен ни временем, ни пространством и рассматривался как чрезвычайный. Обладатель проконсульского империя мог исполнять свои обязанности до сенатского решения освободить его от них в основном в связи с выполнением данного ему поручения. Империем обладал также наместник провинции в ранге проконсула или пропретора. После реформы Суллы именно он фактически становился командующим войсками. Его империй был ничем не ограничен, кроме срока (и в этом отношении наместника можно сравнить с диктатором); на основании империя проконсул или пропретор обладал всей полнотой административной, военной, судебной и полицейской власти. В последние десятилетия республики в руках одного человека могло сосредотачиваться управление несколькими провинциями, и в каждой из них он обладал империем. Важнейшим аспектом империя было командование армией. Именно в таком качестве выступает imperator.
Что же касается potestas, то это право выражать волю государства, обязательную для всех граждан, в том числе и других магистратов, и добиваться путем наложения наказаний (в основном штрафов) повиновения своим распоряжениям. Правда, квесторы второго права не имели. В отличие от империя potestas рассматривалась в первую очередь как гражданская власть. Как уже отмечалось, магистраты были ответственны, но за свои действия они отвечали только после окончания срока своей магистратуры. Это же правило распространялось и на промагистратов, т. е. бывших магистратов (проконсулов и пропреторов), которым продлевался империй, чтобы они выполняли важное государственное поручение, в основном управление провинцией. Власть магистратов domi, т. е. в самом Риме, была ограничена законом и действиями других магистров, a militiae, т. е. когда консул, претор или диктатор стоял во главе армии, практически неограниченной.
Каждый магистрат не просто исполнял свою должность, он в рамках своих обязанностей являлся воплощением римского народа и государства, его представителем не только перед людьми, но и перед богами. Будучи магистратами, римляне могли одновременно занимать и те или иные жреческие должности (как, впрочем, и частные лица). Но даже если высший магистрат, обладающий империем, не был одновременно жрецом, он все равно имел право и обязанность общаться с богами и узнавать их волю посредством особых гаданий — ауспиций, поэтому слово «ауспиции» приобретает в значительной степени еще один смысл — командование армией. При проведении ценза римского гражданина в первую очередь спрашивали, под чьими ауспициями, т. е. под командованием какого полководца, он участвовал в войнах. Это придавало магистратурам (по крайней мере, высшим) сакральный характер.
Магистратом по идее избирался наиболее достойный гражданин. Римлянам была чужда идея греков, особенно афинян, избирать по жребию, дабы не допустить подкупа и возложить избрание на волю богов. Наоборот, человек, искавший должности, являлся гражданам в особой набеленной тоге, а потому и назывался кандидатом (от candidus — блестящий, белоснежный), в сопровождении друзей и рабов он обходил граждан, агитируя за свое избрание и добиваясь их расположения. Подкуп был запрещен, и были приняты суровые законы против него, но в реальности он, конечно, имел место, особенно в период кризиса и падения республики. Всякая магистратура была не только должностью, но и почестью — honos. Устанавливается cursus honorum — последовательность занятия должностей и список этих должностей, занимаемых тем или иным гражданином. Любой человек, хоть раз в жизни обладавший honos, или хотя бы его имели его предки, уже поднимался над остальными гражданами, и совокупность таких людей и их родов и фамилий и составляла римскую знать — нобилитет[15].
Таким образом, системе магистратур были присущи определенные монархические черты и в ней практически были заложены возможности их использования для установления личной власти. Особенно это ощущалось в диктатуре. Должность диктатора была чрезвычайной. Он не имел коллеги, стоял не только над остальными магистратами, но и над сенатом, его империй практически распространялся и на Рим, на него не действовало даже трибунское вето, и единственным ограничением являлся срок — 6 месяцев. Римляне чувствовали опасность, таившуюся в диктатуре, и после II Пунической войны диктатора более не назначали. В новом виде диктатура возродилась только уже в условиях гражданских войн в I в. до н. э.
Вторым по опасности ударом по республиканским устоям была промагистратура, особенно должность проконсула. В отличие от консула бывший консул действовал вне Рима, и поэтому его империй был militiae и неограничен. Если консул занимал свой пост в течение одного года (а переизбрание подряд или в близкое время рассматривалось как нечто чрезвычайное), то проконсул имел власть на протяжении нескольких лет (как правило, пяти). После реформы Суллы единственными легальными командующими армиями становились проконсулы. Отменить же проконсульство римляне не могли, так как именно проконсулы вели большую часть военных действий и управляли провинциями, расширяя тем самым и обеспечивая власть римского народа.
Это были, если можно так выразиться, конституционные предпосылки установления империи. Сами по себе они не могли привести к крушению республиканского строя, пока существовала так называемая concordia ordinum — согласие сословий, т. е. согласованная деятельность римского народа и сената, что нашло выражение в формуле senatus populusque Romanus (S. P. Q. R), a также магистратов, обеспечивавшая власть Рима в принципе над всей вселенной. Такое согласие, конечно, могло существовать лишь до тех пор, пока сила взаимных интересов всех граждан была мощнее их разногласий. Когда в последней трети II в. до н. э. оно начало разрушаться, возможности использования магистратуры или промагистратуры в личных интересах все чаще становились реальностью или, по крайней мере, весьма ощутимой возможностью. Разумеется, разрушение согласия являлось признаком более значительных глубинных процессов в римском обществе. К этому времени сплелся целый клубок внутренних противоречий: между рабовладельцами и рабами, между мелкими крестьянами и крупными и средними землевладельцами, между сенаторами и всадниками, между различными группами внутри сенаторской знати, между римлянами и италиками, между римлянами и провинциалами. Различные классовые, сословные, групповые, этнические и даже личные интересы оказались сильнее ассоциативных связей, сплачивавших римское общество. С расширением римской власти и появлением огромного количества подчиненных усилился паразитизм собственно римского общества. Наступал кризис Римской республики.
Одним из ярких проявлений кризиса стало резкое усиление политической борьбы. Римскую знать, как, впрочем, и знать любого государства, всегда раздирала борьба различных группировок, связанных с теми или иными родами и фамилиями. Однако в условиях кризиса она стала еще более напряженной и фактически приобрела новое качество. Но еще более значимым было то, что эта борьба вышла за пределы узкого слоя римской знати, нобилитета, выплеснулась на улицы и площади, вовлекла в себя городской и сельский плебс. Искреннее желание облегчить положение низших слоев граждан и стремление обеспечить государство боеспособной армией слились с эгоистическими честолюбивыми планами тех или иных политических деятелей и придали политической борьбе невиданный ранее накал.
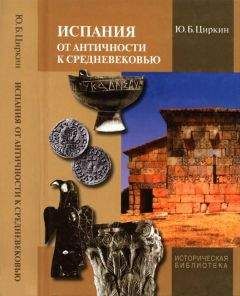
![Э. Гиббон - История упадка и крушения Римской империи [без альбома иллюстраций]](/uploads/posts/books/184344/184344.jpg)