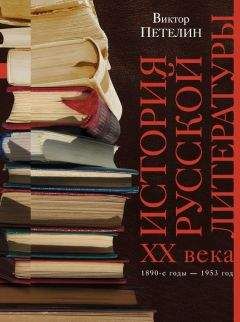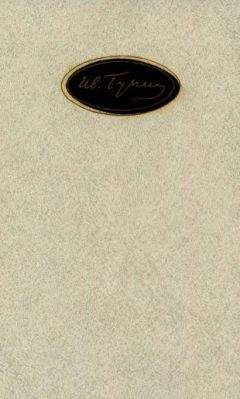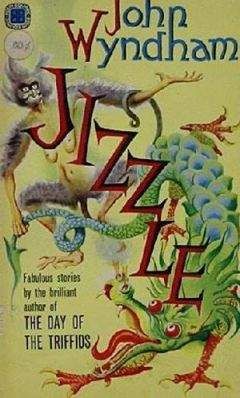Виктор Петелин - История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции
Совершенно справедливо критик говорит и о том, что автор тщательно проработал все известные источники об этом времени, внимательно изучил его предметные стороны, архитектуру старой Москвы, костюмы, одежду, домашнюю утварь, меню великокняжеского двора и монастырей, церковный календарь, а главное – язык того времени.
И казалось бы, это все положительно характеризует писателя и его сочинение, пронизанное правдой. Но критик делает совершенно неверный, в угоду времени, вывод: «Эта кропотливая подготовительная работа достаточна для придания роману видимого правдоподобия и внешней убедительности, но она не может заменить подлинного проникновения в дух и характер эпохи. Это проникновение, достигаемое прежде всего верным изображением чувств, представлений и отношений людей, в романе Язвицкого подменяется натуралистическим копированием языка и преувеличенно подробным описанием материальной обстановки» (Там же).
Сложный, глубокий, противоречивый характер Василия Тёмного, в котором автор показал много человеческого, по мнению критика, получился неудачным: «В романе благодушие и мягкость Василия Васильевича, характер которого, по беглому замечанию Ключевского, совсем не подходил для выпавшей на его долю боевой роли, перерастает в слезливую сентиментальность, так мало свойственную русскому человеку XV века. Московский князь, тоскливо умиляющийся при звуках татарской песни, «виновато, как малый ребенок», просящий у епископа перевода в Москву «зане великогласного вельми» диакона, тронутый до слёз и дрожания в голосе видом своего сына на коне, вообще умиляющийся и пускающий слезу чуть ли не на каждой странице романа, неправдоподобен исторически и психологически» (Там же. С. 177—178).
Критик также считает, что образ пятилетнего Ивана, будущего Ивана III, не удался. Приведя несколько цитат из романа, из которых следует, что Иван быстро взрослел и высказывал довольно умные мысли, критик не верит ни одному слову и восклицает: «Невероятно!»
А между тем ничего невероятного автор и не показывает. Он только следовал давно сложившемуся представлению, что Иван III был незаурядным человеком, на много лет опередившим своё время, ему с детских лет пришлось принимать участие чуть ли не во всех государственных мероприятиях, он жадно впитывал всё, что вокруг него происходило, познал сущность дворцовых интриг, значение церковной службы в каждодневной жизни человека. И не случайно он так любил свою бабушку Софью Витовтовну, выдающуюся женщину своего времени. Автор и задумал показать, что рано проявившиеся сознательность, твёрдость, сила воли совсем не нарушают психологической правды, а, наоборот, лишь подчёркивают, что великим государем Иван стал в будущем совсем не случайно, а закономерно, вовлечённый в сложную жизнь своего времени и воспитанный трагическими обстоятельствами.
«Самое неприятное в романе В. Язвицкого – елейно-слащавый тон, идиллическое изображение быта великокняжеского двора, отношений между членами княжеской семьи и дворцовой челядью.
XV век – жестокое время, и жестокость эта проявлялась не только в изуверских формах борьбы с врагом, но и в суровой сдержанности всех – даже самых нежных – чувств. Эту суровую сдержанность нравов эпохи не сумел передать в своём романе В. Язвицкий. Исключение – Софья Витовтовна, образ наиболее удавшийся автору» (Там же. С. 178).
Упомянув о том, что в русской литературе есть два произведения («Басурман» Лажечникова и «Римлянка» А. Несвицкого), в которых авторы касаются того же времени, что и Язвицкий, критик удивляется тому, что «оба упомянутых автора меньше идеализируют прошлое, не курят так фимиам вокруг русской старины, московских князей и духовенства, как это делает советский писатель В. Язвицкий» (Там же).
Всякая идиллия должна быть исключена, потому что оборотной стороной централизации государственной власти в России всегда была эксплуатация крестьян и ремесленников. Критик усмотрела в описании нормальных человеческих отношений модернизацию человеческих чувств, понятий и отношений. Роман В. Язвицкого, по мнению критика, также грешит «безудержной архаизацией повествования».
А попытка автора передать исторический колорит того времени, используя элементы стилизации, критику кажется психологической и эмоциональной подделкой под старину. Писатель не должен с умилением описывать все эти святые иконы, святые монастыри, восторгаться тем, как «хорошо вокруг града святова – Ростова Великова». Все эти описания, передающие подлинные чувства верующего писателя и восхищающегося действительно праведным бытом княжеской семьи, кажутся критику «паникадильными», кажутся «недостойным маскарадом, к которому не прибегали ни Лажечников, ни Загоскин». Всё это «коробит советского читателя».
И уж совсем напраслину возводит критик на писателя, обвиняя его в том, в чём он действительно совсем не виноват, в том, что «авторская речь обильно пересыпана архаическими словечками и оборотами речи, искажёнными собственными именами», в том, что писатель «загромождает» речевую ткань «непонятными без словаря терминами и рабски копирует её транскрипцию».
«Из всего сказанного можно сделать только один вывод: большая и трудная работа, проделанная писателем, не увенчалась успехом. Это произошло потому, что романист шёл не по пути социалистического реализма, а по пути эмпирического воспроизведения внешних признаков эпохи, и при этом впал в слащавую, антиисторическую идеализацию прошлого» (Там же. С. 179), – вынесла свой обвинительный вердикт критик Ф. Александрова.
Эта вульгарно-социологическая точка зрения вполне укладывалась в трафаретные положения социалистического реализма, полагаясь на правоту которых авторам исторических сочинений следовало изображать царей, бояр, князей только с точки зрения последующих результатов классовой борьбы, только в чёрном свете, только как гнусных эксплуататоров чёрного люда, только с уродливыми физиономиями и с уродливой душой.
В. Язвицкий попытался реконструировать прошедшую жизнь такой, какой «продиктовали» её изученные им исторические летописи и другие документы. Он показал, как рос, формировался, мужал и обретал самостоятельность великий русский государь – Иван III, какие трудности преодолевал он, создавая единое могучее государство, преодолевая устремления удельных князей, прежде всего убеждая своих единокровных братьев быть с ним заодно. Тяжёлое иго татарское всё ещё висело над Русью. А с Запада по-прежнему был силён напор латинской веры, устремления папы подчинить Русь своему влиянию. И сокрушение власти Новгорода на западных рубежах России одно время становилось главной задачей. А потом уже Угра и окончательное освобождение от татарской дани, гибель Ахмата.
В изображении Ивана III критики 60-x годов усмотрели «идеализацию», а значит, «искажение сущности исторического героя»: «Описание царских палат и одежд, пиров и приёмов в пятитомном романе В. Язвицкого «Иван III – государь всея Руси» сделаны в точностью и любовью антиквария. А сам государь? Он с детства отличается остротою ума и крайним благородством. Он и объединитель русских земель, и народолюбец, и прозорливец, и каждый шаг, каждая мысль его продиктованы лишь заботою о благе Руси. Вместо портрета – «парсуна», почти икона, сквозь которую еле-еле брезжит реальность» (Новый мир. 1965. № 2. Цит. по: Литература и современность: Сборник 6. Статьи о литературе 1964—1965 годов. М.: Художественная литература, 1965. С. 379).
Критик даже не допускает возможности, что сущность исторического героя, его поступки, его действия, его мысли и устремления могут быть действительно пронизаны «крайним благородством», Иван III был действительно умным правителем, благородным человеком, внимательным отцом, любящим мужем и «народолюбцем».
Все эти качества В. Язвицкий не придумал, а извлёк из летописных свидетельств, из исторических сочинений замечательных русских историков, которые выделяли Ивана III как гениального правителя, во многом опередившего своё время. Иван III предстаёт в процессе формирования его личности, его нравственного облика. Всё лучшее, что было в суровом ХV веке, внушали ему отец и мать, «бабунька» Софья Витовтовна, великая дочь своего времени, вдова старшего сына Дмитрия Донского, дьяки и подьячие, священники и простые слуги, бояре и воеводы, служившие великому князю не за страх, а за совесть, а главное – свою веру в силу и в отечество, веру в Бога. И этот процесс формирования, со всеми реалиями, деталями и подробностями, передал В. Язвицкий, и, что характерно, передал языком того времени, в транскрипции того времени.
В 1948 году был опубликован роман А.К. Югова (1902—1979) «Ратоборцы. Эпопея в двух книгах»: первая книга посвящена изображению жизни и деятельности Даниила Галицкого, вторая – Александру Невскому. Действие эпопеи начинается в 1245 году, когда нашествие монголов опустошило русские земли, Польшу и Венгрию, Молдавию и Болгарию, Северный Китай и Корею, когда Монгольская империя простиралась от Тихого океана до Балкан и не было силы, способной противостоять им. «Состояние России было самое плачевное: казалось, что огненная река промчалась от её восточных пределов до западных; что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их, от берегов Оки до Сана, – писал Н.М. Карамзин. – Летописцы наши, сетуя над развалинами отечества о гибели городов и большей части народа, прибавляют: «Батый, как лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья российские пали в битвах; другие скитались в землях чуждых; искали защитников между иноверными и не находили; славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами растоптанных конями татарскими, а девы о своей невинности: сколь многие из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки! Жёны боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные златыми монистами и одеждою шёлковой, всегда окружённые толпою слуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жён, мололи жерновом и белые руки свои опаляли над очагом, готовя пищу неверным… Живые завидовали спокойствию мёртвых». Одним словом, Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскою империею от времен Феодосия Великого до седьмого века, когда северные дикие народы громили её цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собою только в силе» (Карамзин Н.М. История государства Российского // Москва. 1988. № 8. С. 103).