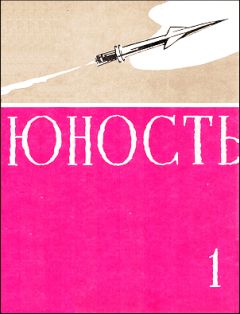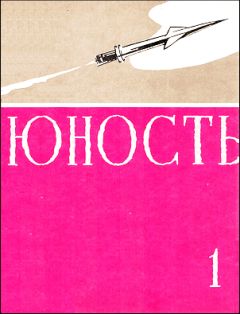Михаил Пархомов - Мы расстреляны в сорок втором
- Как же, родня она мне.
- Даже так? Понятно,- говорит Семин.- В таком случае ты оставайся. Мы возьмем курс вон на тот выселок. Догонишь.
- Добре,- соглашается Сероштан. Не проходит и двадцати минут, как мы слышим за спиной его могучие шаги и посапывание. Сероштан несет торбу. Поравнявшись с нами, развязывает ее и наделяет каждого краюхой еще теплого ситного хлеба и, после некоторого колебания, раздает по куску домашней колбасы. В торбе у него остаются ржаные лепешки, но их он не вынимает.
- Так и быть, устроим короткий привал,- говорит Семин.- Садись. У кого есть нож?
- У меня.
Жора вынимает из кармана нож, вытирает его травой и протягивает Семину деревянной ручкой вперед.
- А ножик, между прочим, финский,- говорит Семин.- Если не ошибаюсь, третий номер. Давно он у тебя, Мелешкин?
- Порядком...- Жора мнется.- По привычке прихватил, когда в армию забрали. На всякий случай. Авось пригодится.
- Пригодится? - у Сенечки глаза становятся круглыми.- И тебе случалось... Только это он и может выговорить!
Сенечка смотрит на Жору с опаской и невольно отодвигается.
- И чего ты пристал к человеку? - говорит Ленька Балюк, обращаясь к Сенечке.- Ножик, ножик... Никогда не видел ножа, что ли?.. Конечно, финские ножи не для того, чтобы перманенты делать.
Чудак-человек этот Сенечка. Он все еще чувствует себя дамским мастером из парикмахерской Трудлера.
Мы сидим под сосной. Ленька откусывает изрядный шматок колбасы, жует. Боцман смотрит на него во все глаза. Сам он не позволяет себе такой роскоши - с колбасой Сероштан обращается почти нежно, едва касаясь ее зубами, налегает главным образом на хлеб. Когда же Ленька, покончив со своей долей, просит у него еще чего-нибудь пожевать, намекая на лепешки, которые лежат в торбе, Сероштан перекладывает торбу на другую сторону и говорит:
- Убери лапы. Не балуй...
Подкрепившись, мы закуриваем. Папиросами угощает Ленька. Боцман, которому кажется, что Ленька на него остался в обиде, не сразу протягивает руку к пачке. Он берет папиросу последним лишь после того, как Ленька ему говорит:
- Да ладно уж, бери, чего там. Интерес считаться. Мне антрацита не жалко.
Папиросы у него действительно неважнецкие. Это тридцатипятикопеечный "Мотор". Тот самый "Мотор", которым пренебрегали даже киевские пацаны.
Я переворачиваюсь на спину и растягиваюсь на траве. Лежу, подсунув кулак под голову. Курю. Смотрю на бегущие по небу облака.
Их гонит ветер. Со стороны Киева. На восток.
- Кончай курить,- говорит Семин. Он выбивает трубку, прячет ее в карман и поднимается. Мы разбираем оружие. За деревьями сереет шоссе. Оно обтекает плешивый взлобок, спокойно стелется по жесткой стерне и ныряет в редеющий в низине сосняк. Идти становится куда легче. Харитонов по привычке начинает насвистывать какой-то мотив, и мы подтягиваемся, берем ногу.
Не страх, а пустота одиночества подстегивает нас. Идем, превозмогая усталость. И когда, прибавив шагу, мы догоняем какой-то обоз, у каждого становится как-то свободнее, веселее на душе. Хорошо, когда с тобой товарищи. Хорошо, когда рядом люди. Пусть незнакомые, встречающие настороженно, но все-таки свои, русские. Кажется, будто тяжелая ругань небритого ездового, шагающего рядом с чубарой лошадкой, разглаживает морщины на темном лице Сероштана и выжимает улыбку из потухших глаз Леньки Балюка.
- Кто такие? - спрашивает Семин.
- А вы кто будете?
- Матросы.
- А-а... А мы, значит, саперный батальон.
- Идете на Борисполь?
- А хто его знает? Одна дорога...
- Где командир батальона? - требовательно спрашивает Семин.
- Там,- ездовой поднимает кнутовище.- Маленький такой, чернявый... узнаете его.
Командир саперного батальона сидит на двуколке и перематывает портянки. Ноги у него белые, худые. Он шевелит костлявыми пальцами. Ничего определенного он сообщить не может.
Обстановка? Бывает хуже, но редко. По слухам, дорога на Полтаву из Борисполя еще свободна. Немцы как будто не успели ее оседлать. Во всяком случае в Борисполе все выяснится. Там видно будет.
- М-да... Увидим, как сказал слепой,- флегматично произносит Ленька Балюк и сплевывает.
Обоз растянулся чуть ли не на километр. Плетутся лошади. По шоссе и по обочинам бредут, засыпая на ходу, усталые, изможденные люди. Некоторые валятся с ног.
А по сторонам дороги лежат повозки, патронные ящики, противогазы, котелки, каски... Вся подсека захламлена этим добром.
Постепенно темнеет. К ночи становится росисто. Вокруг нет садов, но почему-то по-осеннему пахнет яблоками. Или так кажется? Нет, действительно пахнет слегка подгнившими кислыми и горьковатыми дичками, источенными червями антоновками... Пахнет терпко, сильно и остро.
Я поднимаю воротник бушлата, отогреваю за пазухой одну руку, потом другую. Думаю о том, что хорошо бы теперь разложить костер. Хвороста-сушняка вокруг сколько угодно. Набери охапку, чиркни спичкой о коробок, и сразу затрещит пламя, поползет едкий, душистый дымок. Впрочем, об этом можно только мечтать.
- Пономарь, ты бывал в Борисполе? - спрашивает Сенечка.
- Нет, не приходилось.
- А я, между прочим, был,- говорит Сенечка.- Дыра, скажу тебе, еще почище Чернобыля. На весь городок всего одна парикмахерская. Да и в той тебя так обкарнают под "полечку", что родная мать потом не узнает. В лучшем случае обрызгают тройным одеколоном, помашут перед носом грязным полотенцем и сразу: сорок и сорок - рубль сорок: ах,пудрить не надо? Тогда - два шестьдесят. Платите в кассу. Следующий! Пра-ашу...
- Здорово это у тебя получается,- говорит Ленька.
- Еще бы, у него опыт,- заявляет Харитонов.- Ловкость рук и никакого мошенства. Он со своими дамочками тоже, наверное, обращался не лучше.
- Я? Что ты, за кого ты меня принимаешь? - ужасается Сенечка.- В Киеве совсем другой компот. У меня постоянные клиентки. Меня приглашают на дом. И все просят, и все умоляют: Сеня, родненький, подстригите меня под Любовь Орлову из кинофильма "Цирк"; Сеня, миленький, меня пригласили на джаз Утесова, будет весь Киев, так вы уж пожалуйста... Да, было время! мечтательно произносит Сенечка и повторяет:- Совсем, скажу я вам, другой компот.
Между тем колонна втягивается в Борисполь. Аккуратные домики выстроились вдоль шоссе. Но окна выбиты, палисадники вытоптаны. В темноте тускло лязгает железо, слышны сдавленные голоса людей, фыркают лошади. Все постройки, разумеется, давно заняты, и нам с трудом удается по приставной лестнице залезть на чердак того самого дома, в котором, судя по жестяной вывеске, раньше была парикмахерская. Засыпаем мы сразу же - проваливаемся в темную прорву сна.
Но, видимо, нам не суждено провести эту ночь под крышей. В половине третьего или около того налетают немецкие самолеты и начинается такое, что нам и не снилось. Гудит тяжелым нутряным гудом искромсанная, покореженная и вспоротая железом земля. Бешено воет и пляшет, облизывая небо, огненное зарево. И в этом угарном, вставшем на дыбы мрачно-багровом пламени, мечутся маленькие фигурки обезумевших людей, хрипят, испуская дух, зубастые лошади. Перепрыгивая через трупы, через упавших, люди устремляются прочь из этого кромешного ада и, увлеченные ими, мы тоже соскакиваем на землю и куда-то бежим, бежим, бежим...
Рассвет застает нас в пустом, пропахшем сырой болотной свежестью лесу. От темных оврагов тянет грибным холодком. Перегнившие листья влажно шуршат под ногами. И, как обычно в конце сентября, на утренней заре пронимает до костей острый ледяной ветер.
А земля - кочковатая, мягкая, податливая. Она упруго пружинит при каждом шаге. Под нею по-старушечьи шамкает и хлюпает вода. Мы то и дело спотыкаемся о пни, оступаемся, падаем.
Наконец Семин останавливается.
- Девятый час,- он смотрит на циферблат.- Занесло нас в болото.
- Да, не было печали...- Харитонов не в силах удержаться и присвистывает с досады.
- Ничего, выберемся,- говорит Семин. Он впервые пытается улыбнуться и кривит губы.- Нам не страшен серый волк. Верно, Мелешкин?
- Факт,- отвечает Жора.
Боцману снова приходится развязать торбу. Мы поглощаем его лепешки. Впрочем, выдает он нам всего по одной, а остальные заботливо прячет. На Леньку жалко смотреть. Что ему какая-то лепешка, когда он обычно заказывал в столовой по три вторых?
Иногда слышно, как в глубине заглохшего сосняка лопаются выстрелы. Стрельба то вспыхивает, то затихает. Порой она так слабеет, что кажется, будто в стороне потрескивает под чьими-то ногами валежник. А порой - будто громко стучит дятел. И не где-нибудь, а над головой.
- Пожалуй, двинем,- говорит Семин. Посоветовавшись, решаем, что надо идти на северо-северо-восток. Компаса у нас нет, и Семин определяет румб по часам. Добраться бы до Черниговских лесов! А там... Махнем на Курск или на Воронеж. "Лучше на Курск",- советует Харитонов. Еще бы, он-то ведь курский. И он принимается расписывать, как придет домой по первому еще мокрому зазимку, как заявится к матери. По его словам, у них там особенно хорошо осенью. Спокойная ясная усталость природы; низкое солнце, которое бледно светит на пустые поля. Привольно дышится морозным воздухом. Ну, а про харч и говорить нечего. Ленька Балюк может быть спокоен; его накормят до отвала.