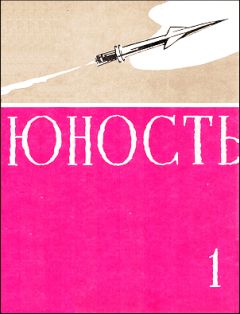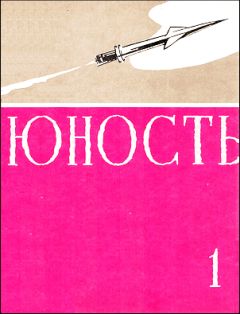Михаил Пархомов - Мы расстреляны в сорок втором

Обзор книги Михаил Пархомов - Мы расстреляны в сорок втором
Пархомов Михаил
Мы расстреляны в сорок втором
Михаил Пархомов
Мы расстреляны в сорок втором
Повесть о мужестве
Памяти Семена Гудзенко
ГЛАВА ПЕРВАЯ Семнадцать
Сегодня замучили Харитонова. Это четвертая смерть за последние дни. Сначала Тимохин, потом Самохвалов и Прибыльский, а вот теперь - Харитонов.
Перед тем как увели Харитонова, мы сидели рядом. Он рассказывал мне о своей матери. Ей семьдесят. Живет она где-то под Курском. "Понимаешь,говорил Харитонов,- одинокая она у меня, хворая. Без меня она пропадет. Поэтому я должен выжить".
Его голос удивил меня своей нежностью и глубокой грустью. И я уверенно сказал:
- Ты, Петро, непременно выживешь. Он не ответил, только усмехнулся. Он курил самокрутку, и я, с жадностью следивший за каждым его движением, не выдержал и попросил:
- Оставь "сорок". Ты ведь обещал, Курский соловей.
- Подожди, дай хоть еще разок затянуться,- ответил он и, глубоко заглотнув дым, передал мне влажный, обсосанный "бычок".- На вот, бери.
- Давай...
Торопливо, обжигая губы, я постарался докурить "бычок" до конца. Шутка ли, целых шесть затяжек!.. Наконец-то и мне привалило счастье
А Харитонов откинулся на спину. Сцепив пальцы на затылке, он тихо, почти не разжимая рта, запел свою любимую песню про черного ворона. "Ты добычи не добьешься .." - угадывал я слова, чувствуя, что песня выворачивает душу.
У меня тогда и в мыслях не было, что часы Харитонова уже сочтены. Кто бы мог подумать? Мы слишком любили его. Мы называли его то Курским соловьем, то Соловьем-соловушкой, то Соловьем разбойником, вкладывая в эти прозвища всю свою мужскую нежность. Слишком уж он был жизнерадостен и молод, чтобы так глупо умереть.
Впрочем, разве бывает "умная" смерть?
За ним пришли утром, и целый день мы ничего не знали о нем. Лишь под вечер, когда красное стеклянное солнце садилось в морозном пару, два солдата, путаясь в длиннополых шинелях, принесли Харитонова. Они несли его за руки и за ноги и, раскачав, швырнули в темноту, на солому.
Скрипнули ворота клуни, и мы окружили товарища. На его губах запеклась пена. Самый старший из нас, боцман Сероштан, наклонился над Харитоновым и шепотом сказал:
- Потерпи, сынок...
Харитонов не ответил. Он стиснул зубы.
Мы его ни о чем не спрашивали. Некоторые из нас уже прошли через "это". Когда хлещут шомполами по пяткам, адская боль пронизывает все тело и впивается в мозг. Ее не выкричать, эту боль, в истошном крике.
Только потом уже, спустя некоторое время, она постепенно тупеет. Ты как бы перестаешь ее чувствовать. Лишь ноги зудят и зудят. Это я тоже знаю по себе.
- До свадьбы заживет,- неуклюже пытается кто-то пошутить и умолкает под тяжелым взглядом Сероштана.
Боцман не теряет времени даром. Смочив кусок тряпки, он выкручивает ее и со всей осторожностью, на какую только способны его заскорузлые ручищи, проводит ею по лицу Харитонова. Глазами приказывает, чтобы я ему помог.
Я становлюсь на колени. Бережно приподнимаю голову товарища. Харитонов едва слышно хрипит и стонет. Кажется, он хочет что-то сказать.
- Мне .. каюк,- произносит он, когда я прикладываю ухо к его губам.- Я знаю...
Он дышит с каждым разом все тяжелее и реже. Задыхается? Быть не может! Бессвязно, торопясь, я бормочу, что ему надо выкинуть эту дурь из головы, что он непременно поправится и будет жить.
- Мы еще погуляем с тобою по Крещатику,- говорю я, не веря самому себе.- Мы еще не раз споем с тобою про черного ворона, помяни мое слово.
И Харитонову, кажется, становится чуточку легче. Он вздыхает. Затем снова - полно, глубоко, всей своей широкой, как бы освободившейся грудью. Но тут по его телу проходит дрожь Он вытягивается, затихает, и глаза его, раскрытые, холодные, становятся незрячими, слепнут. Вскоре они совсем теряют свою синеву.
Все кончено.
И мы обнажаем головы. Мы - семнадцать его друзей, оставшихся в живых. У каждого из нас, я знаю, такое чувство, будто это он виноват в том, что Харитонов умер, а наш черед не наступил и мы еще живы.
Да, теперь нас только семнадцать. Одни погибли. Другие, надо думать, все-таки пробились на восток. А некоторые... Что ж, были и такие, которые побросали оружие и разбежались по домам. Нас же судьба уберегла от гибели только для того, чтобы разбросать по лагерям, откуда нас затем выудили поодиночке и согнали под Никольскую слободку. Увидят немцы тельняшку, заметят татуировку на груди - и сразу волокут: матрос, матрос...
Так мы очутились в этой черной продымленной клуне. Здесь-нас держат отдельно от других пленных. Возможно потому, что нас боятся. Но скорее всего потому, что мы обречены. Толком, однако, этого не знает никто из нас.
Сейчас зима, февраль, и мы лежим по целым дням, тесно прижавшись друг к другу. Лежим на прелой соломе, перемешанной с навозом, которая пахнет чем-то кислым и приторно-сладким одновременно. Вокруг нас стоит густой гнилостный запах. Он преследует нас повсюду.
Я смотрю на товарищей. Запавшие щеки, восковые и фиолетовые лица. Все заросли жесткими волосами до самых глаз. В клуне всегда полумрак, и кажется, будто ее наполняют безликие тени, призраки. Они ворочаются, переползают с места на место, подгребают под себя солому, что-то бормочут.
Вот уже вторую неделю я не выхожу из клуни. Прошло то время, когда, несмотря на собачий холод, мы ежедневно совершали небольшие прогулки в своем отрепье. Раньше старший лейтенант Семин следил, чтобы каждый из нас бывал на воздухе. Но с тех пор, как затравили Тимохина, а Семина свалил сыпняк, все пошло кувырком. Боцман Сероштан настоял, чтобы никто не выходил из клуни без его на то разрешения. Сероштан осторожен. Он не хочет, чтобы мы шутили с огнем. В самом деле, охранники озверели от холода и скуки. Они не прочь позабавиться. Того и гляди спровоцируют, как Тимохина, и, когда ты выйдешь из себя,- пристрелят. Как-никак, а это для них развлечение. Надо же на ком-нибудь выместить злость. Так что лучше уж не попадаться им на глаза.
Все эти мысли проносятся у меня в голове. Я привык подчиняться приказу. Но какая-то сила заставляет меня подняться. И вот я уже бреду к воротам. Будь что будет! Мне необходимо побыть одному. Я не могу находиться рядом с мертвым Харитоновым. "Эх, Петро, Петро! И зачем ты это сделал?" - твержу я упрямо и тупо, словно Харитонов сам виноват в своей смерти.
- Постой, ты куда? - спрашивает Сероштан.
- Мне надо выйти,- говорю я не оборачиваясь.
- Смотри, не зарывайся,- предостерегает Сероштан.- На рожон не лезь. Понял?
- Ладно,- отвечаю я и втягиваю голову в воротник бушлата.
На снегу лежит серый комочек. Это воробей. Его не отогреть. Сейчас так тихо, что слышно, как мороз обкусывает голые сучья деревьев. С хрустом падают они к моим ногам.
Лагерь пуст. Людей не видно. Навесы, два - три сарая, обугленный остов кирпичного дома...
Вот и все. Наш мир тесен. Он ограничен с четырех сторон колючей проволокой. Затхлый мир, из которого нет выхода. Об этом постоянно напоминают дощатые башенки по углам - там у пулеметов маячат часовые.
Но к черту часовых! Я стараюсь о них не думать. Гляжу поверх проволоки на яркий слепящий снег. У меня слезятся глаза, а я смотрю, смотрю, смотрю...
Вот полянка. Кое-где она поросла дымчатым тальником. Стоят, пламенея на солнце, редкие сосны. Меж ними петляет санная дорога. Она ведет на Дарницу. С той стороны временами доносятся сиплые гудки паровозов.
Дорога, паровозы... Стало быть, мир не так уж мал. На дороге появляется буланая кляча. Мотая головой при каждом шаге, она натужно тянет широкие сани, нагруженные каким-то скарбом. Рядом семенит человек в треухе и в валенках, подшитых красной автомобильной резиной. Оба, и лошадь, и человек, тащатся медленно. Они стары. А я, смешно сказать, завидую им, завидую даже дряхлой кляче. По крайней мере она свободна, она может идти куда глаза глядят, тогда как я...
Медленно и трудно я перевожу взгляд вправо, на осевшие под тяжестью снега деревянные домишки Никольской слободки. Тихие, спокойные, мирные домишки. Такие обычно рисуют на картинках. Над ними вьются дымки. Смотришь на них и думаешь: неужто есть еще люди, которые спят на кроватях, едят из тарелок, пекут в печах ситный хлеб? Смотришь и постепенно начинает казаться, будто не было никогда и нет никакой войны, будто война - это глупая выдумка, бред, наваждение, сон, который привиделся тебе в ночи.
Ведь ты жив. Ты и теперь такой же, как и полгода тому назад. Так неужели за эти полгода мог измениться мир? Нет, тебе только казалось, что рядом умирали люди, что сам ты тоже в кого-то стрелял, кого-то душил руками. Посмотри вокруг. Все те же мирные кривые домики, дымки из труб, тишина...
А Тимохин? А Харитонов?
Забывшись, я приближаюсь к проволоке. И тотчас длинная очередь прорезывает тишину. Вот тебе, получай! Ты, кажется, смел подумать, что нет войны? Тебя обрадовала тишина? Так вот, часовым давно хотелось прогреть пулеметы. Их не взволнует, если пуля ненароком заденет тебя. Одним военнопленным меньше, одним мертвецом больше. Какая разница?