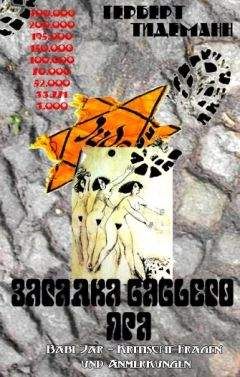Леонид Беляев - Христианские древности: Введение в сравнительное изучение
XVIII вв.), исследователи-иностранцы делали тщетные попытки связать оригинальные формы церквей с чем-нибудь уже знакомым, приходя к парадоксальным выводам.10
За таким подходом стояли более серьезные, чем просто неисследо-ванность русского зодчества, основания. Необходимый для понимания сложения древнерусского храма круг аналогов (прежде всего византийское церковное зодчество) был еще чужд историкам культуры Западной Европы, а его основные памятники оставались малодоступными. Переломить ситуацию в этом отношении предстояло именно русским исследователям, до выхода которых на авансцену оставалось совсем немного.
Важную стимулирующую роль в дискуссии о происхождении древнерусского церковного искусства и его значении для современной России сыграла книга великого французского реставратора, историка архитектуры и знатока средневековья Виолле-ле-Дюка (Виолле-ле-Дюк, 1879; о нем см. гл. VII-1). Сильной стороной его как исследователя был своеобразный позитивизм; он видел в процессе создания искусства не произвольный выбор форм, а результат географических и исторических условий (климата, материала, характера потребностей и ремесленных навыков, обычаев и вкусов, наконец, религиозного чувства). Не зная толком всего этого, автор, конечно, часто выглядел наивно, сводя влияние климата Руси, например, к толщине стен, а особенности сознания — к патриотизму и вере. Книга Виолле-ле-Дюка не чужда и «концепции заимствований», причем исследование основывалось на неполных и не всегда доброкачественных источниках.
Однако работа обладала важными достоинствами. Правда, предложенная им «генеалогическая характеристика», начатая с племен Центральной Азии и «расцвеченная» бесчисленными контактами, рисовала Русь «лабораторией, в которой искусства, занесенные со всех концов Азии, соединились вместе для принятия формы, средней между миром восточным и миром западным». Но, отказавшись причислить древнерусское искусство к европейскому, опытный исследователь все же характеризовал его как средневековое и обосновал тезис о его самостоятельности. Формы русского церковного зодчества виделись ему не подражанием, а развитием исходных образцов, к XV в. достигшим самобытности, а в XVI в. создавшим подлинные шедевры.
Мнения русских ученых по поводу книги резко разошлись. Ее приветствовал, особенно в части функционального и конструктивного анализа, Л.B. Даль." Резко и неприязненно отозвался на книгу Виолле-ле-Дюка Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882), выпустивший специальный и очень жесткий ее разбор. Известный археолог, предугадавший принадлежность Дмитриевского собора во Владимире к кругу ломбардской архитектуры (ему принадлежит одно из первых и лучших исследований о нем с увражем обмеров, выполненных местным учителем Ф. Дмитриевым), один из основателей и глава Археологической комиссии (1859), Строганов оригинально сочетал во взглядах черты горячего патриота с уверенностью в несамостоятельности русской архитектуры (Строганов, 1878; Он же, 1849).
Ошибки Виолле-ле-Дюка были подробно проанализированы переводчиком книги, Николаем Владимировичем Султановым (1850–1908) (Султанов, 1880). Но то, что этот гражданский инженер и реставратор начал свои занятия историей зодчества с перевода Виолле-ле-Дюка, во многом определило его взгляды: в эпоху господства взгляда на русское зодчество как исключительно «самобытное» он сохранил здравость суждений.12 Султанов известен как один из теоретиков «историзма» в архитектуре, его практическая архитектурная деятельность в МАО менее известна, но дневники показывают, сколь напряженной и широкой она была, сколько включала конкретно-археологических исследований.13
В общем, за сравнительно-историческим анализом открывалась более широкая научная дорога, чем та, куда вела «концепция самобытности». Однако на определенном этапе и ее разработка была совершенно необходима и по-своему плодотворна. Она возникла в кружке, который сложился в 1850-х гг. при Московском дворцовом архитектурном училище, созданном в конце XVIII в. М. Казаковым. Директорами здесь были такие архитекторы, как Ф. Ф. Рихтер и М.Д. Быковский; профессора училища были тесно связаны с московскими археологами, получали от них точные обмеры памятников, хранили их (эту традицию сейчас продолжает специальный Музей при Московском археологическом институте), имели возможность натурных исследований. Здесь оформились многие популярные позже взгляды на русское, в том числе церковное, зодчество, имеющие широкое хождение до сих пор.
Например, выпускнику, а затем профессору училища Петру Сергеевичу Максютину, одному из участников поездки Бороздина, принадлежал тезис о плотничьем искусстве славян как истоке русского зодчества (Максютин, 1851). Этот тезис, в дополнение целой системы ему подобных, был вскоре развит известным историком Москвы Иваном Егоровичем Забелиным (1820–1908), ставшим признанным главой всего направления (Формозов, 1984; Забелин, 1988). Известный археолог, много сделавший для раскопок скифских курганов на юге России, он служил в канцелярии Оружейной палаты и архиве Дворцовой конторы, преподавал историю и археологию, был одним из создателей и директором Исторического музея. Сильной стороной его деятельности был сбор и публикация архивных документов по истории царского двора, Москвы, русского позднесредневекового быта в целом. Но в его историко-культурологических построениях сказалось отсутствие университетского образования и чересчур жесткий «почвеннический» подход. Он верно ограничил возможные влияния Востока в русской архитектуре, подчеркнув слабость следов исламского влияния, чрезмерную удаленность Индии и т. п. Однако, не будучи архитектором и опираясь только на анализ гражданских и оборонительных сооружений, Забелин пытался обосновать вывод о зависимости форм и приемов русского каменного зодчества от форм и приемов, выработанных в зодчестве деревянном. Это вынудило его ослабить анализ церковной архитектуры, где вполне очевидна обратная зависимость. (О проблеме «самобытности» среди архитекторов
XIX в. точнее всех высказывался В. В. Суслов, хорошо понимавший изначальную зависимость церковной деревянной архитектуры от каменной, что легко было наблюдать даже на примерах строительства церквей в XVIII–XIX вв.).
Важнейшие пути для изучения средневекового храма наметили участники первых Археологических съездов, собиравшихся каждые три года, поддержанные с 1892 г. съездами русских зодчих. Уже на I Съезде А. С. Уваровым был поставлен ряд простых вопросов, без ответа на которые невозможно было приступить к общей истории и теории русского церковного зодчества. Вопросы были как типологические (например, как широко распространен и устойчив традиционный план крестовокупольного храма?), так и хронологические (когда начали строить колокольни?) и технологические (как по кладке определять время строительства?) и др. (Уваров, 1871, 266).
Можно сказать, что на рубеже 1860-70-хгг. историки церковных древностей, изучая происхождение и оригинальные черты русского средневекового храма, задались примерно тем же кругом вопросов, какой поставят перед собой европейские ученые в 1890-х гг. применительно к ранним христианским базиликам на первом Международном конгрессе христианской археологии. В будущем окажется, что русская наука справилась со своей задачей гораздо быстрее, чем западноевропейская— впрочем, и задача был сравнительно более узкой и «компактной», хотя бы в отношении круга памятников и источников. Чтобы ответить на поставленные вопросы, пришлось снова прибегнуть к сравнительным методам. В статьях по архитектуре деревянных церквей Уваров, подобно Строганову, придерживался «теории влияний» и указывал на воздействие Галиции. Но уже первые работы о каменном зодчестве Владимира констатируют принципиальное отличие объемно-планиро-вочной структуры («плана») владимиро-суздальских церквей от романских базилик. Одновременно Уваров расширил набор аналогов в романской архитектуре, задавшись вопросом: если храмы строили иноземные мастера, то что заставило их отказаться от базиликальных форм? Он не мог найти еще ответа на этот вопрос (так как не были исследованы отношения средневековых «заказчиков» со «строителями»), но сама его постановка свидетельствует о понимании сложности проблемы (Уваров, 1871; Он же, 1876).
Уваров верно указал на преждевременность решения вопроса о «византийском», «романском» или «местном» характере архитектуры суздальских храмов: никто еще не анализировал ни русских церквей Киевской эпохи, ни их византийских прототипов. Потребность анализа истории русского зодчества решила, по сути дела, судьбу архитектурного византиноведения в России, заставила русскую школу стать ведущей в мировой науке, изучающей Византию.14
Параллельно делались усилия и по созданию общей истории русского церковного зодчества.15 В 1880-х гг. появляются статьи и книги, рассматривающие происхождение отдельных типов церковных зданий (Гагарин, 1881; Султанов, 1887). В. В. Суслов пишет программу курса русской архитектуры для Академии художеств, но тем дело и ограничивается (Суслов, 1889). Оказалось, что создать полноценную историю церковного зодчества трудно не столько из-за скудости накопленных материалов, сколько из-за отсутствия длительной аналитической традиции, так сказать, «непривычности» размышлять о русской средневековой архитектуре в рамках единой терминологии и методики.