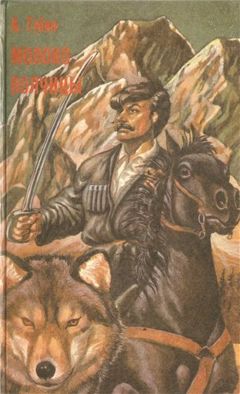Андрей Губин - Молоко волчицы
- Что же ты мне детей да баб с девками суешь в войско?
- Какое ни есть, а войско!
- Завтра, Миша, будет твой час, ты бы бежать попробовал, чего ты ждешь?
- Вот тебя ждал, завещание передать. А бежать сил нет - я только до хаты могу дойти, и то с передышкой. А вон, видишь, полицай сидит? Савана Гарцева сынок. Враг лютый. Его отец, помнишь, застрелил отца Крастерры, Васнецова, что конями тогда правил. Парень с характером, будь осторожен, и берегите от него Крастерру, он уже зарубил одного человека в станице. Еще один пункт тебе в завещание: Лермонтова не забыл?
- "Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана!" - поднял голову Спиридон, помнивший множество стихов поэта со школьной скамьи.
- Как бы его немцы не взорвали. Или в Германию увезут. Попробуй спасти.
- Ладно, Минька, не тревожься, сделаем.
Заскрипели колеса. По улице Глеб везет глину на тачке.
- Зайди на минутку! - крикнул Спиридон через стенку.
- Некогда, фундамент обваливается, подмазать надо! - ответил Глеб. Завтра.
- Завтра будет поздно!
- Вечерком забегу!
- В дом вселился... пускай едет, - говорит Михей.
Ульяна подала обжаренного в жиру индюка. Спиридон ел жадно - еще не отъелся после казенных харчей. Михей подливал ему вина. Иван сшибал палкой спелые яблоки и груши, брезгуя деревьями, поваленными танками. Спиридон обтер руки о виноградные листья, потом об штаны, дрогнула его рыжая борода:
- Как же это, браток? Росли, бегали, косили, воевали, а теперь, получается, все?
- Все, брат, время. Не горюй, доживи до победы - я на золотом коне прискачу в станицу, я только подремать на часок прилягу, а ты песню споешь на прощанье.
- Сейчас?
- Завтра... или когда там...
- Слушай сейчас, а то завтра не услышишь. Какую тебе?
- На Куре-реке, - подумав, сказал Михей.
Спиридон негромко запел:
Ой да на заре то было,
На заре было на утренней,
Денечка прекрасного,
Солнца ясного.
Собирались там у нас казаченьки
Во единый круг.
Во кругу стоят храбрые казаки.
Ой да кто из вас, братцы,
На Куре бывал, про Куру слыхал?
Отозвался один казак молодой,
Про ту сторону казакам сказал:
Уж вы, ночи мои, ночи темные,
Надоели вы мне, надокучили,
Долго мне в ночах на часах стоять,
Царю-батюшке караул держать.
Проглядел я свои быстры глазушки,
Простоял свои резвы ноженьки...
На Куре-реке мне теперь не быть,
Коня ворона не в Куре поить
Мне поить коня за Неволькою
И скакать в седле - гробу тесаном.
На Куре-реке служба тяжкая,
Служба смертная, служба царская...
Спиридон выпил, налил и предложил брату:
- Ну, выпей со мной хоть наперсток.
- Пей, друзья, покамест пьется.
- Мать встретишь, приголубь.
- Нету там встреч! - сказал непреклонный коммунист. - Вино забери, похмелишься. - И словно скомандовал: - Ступай, час добрый! Постой, ты же мне так и не рассказал, где ты был последние годы, Фолю таскали в НКВД, и я догадывался - не бежал ли ты?
- Долго рассказывать... время не позволяет... потом расскажу... при случае... В Париже и Мадриде был...
"Эдельвейсы" вышли из палатки на лугу, легли, как буйволы, в нагревшуюся речку, стремительно закипевшую у их голов.
Полицейский ушел. Но на костылях далеко не убежишь. Ульяна жиром заплыла. Может, один бы и ушел, но без нее он беспомощен теперь, а она и нужна, и ядро на ногах. Теперь же пусть сама расплатится слезами потери за то, что повернула коней назад - надо было хоть мертвого, но увозить Михея. Однако хорошо, что вернула: немного навару с мертвого, а тут он сегодня прекрасный денек прожил - и Кольку с Крастеррой нарядил, и брата к делу пристроил. Ульяне, он понимает, не хотелось уходить с насиженного места от живого к холодному, дома стены помогают, а там и места не пригреешь. И Михей, точно самоубийца, мстительно думал о предстоящем горе жены - от его гибели. Теперь он понял мать Прасковью Харитоновну, которая на себе вымещала зло на других - трудом, бережливостью, недосыпанием. Эта черта присуща и ему. Но он умом гасил в себе злость. Чего ей мстить, Ульяне? Недалекая, покорная баба. Прожила она за ним, как за каменной горой. Подружки завидовали ей, а что видела она, что узнала? Прожил Михей на ветру, на коне, в схватках, а она просидела, ковыряясь на грядках, в теплом углу.
В сумерках вошел в хату Иван.
- Дядя Михей, Спиридон Васильевич привел коней под Синий яр.
- Уля, пойдем?
- Куда иголка, туда и нитка.
Посмотрел на жену - куда такой нитке на коня, ноги как у рояля, а у самого сердце дает перебои, конец подходит.
- Ваня, скажи Спиридону, пусть уходит, рисковать бы ему не надо - не все сделал, а я распорядился полностью.
- Дядя Михей, пошли без тетки, может, ее не тронут.
- Так дела не делаются, жили вместе - и помирать вдвоем.
- Я сюда коней приведу, Гарцева еще нету!
- Скажи Спиридону, пускай вспомнит рассказ Льва Толстого, я сотне на германском фронте читал: как Жилин и Костылин из плена бежали... Ступай. Уля, пошли в сад, посидим, смолоду некогда было, а нынче визиты замучили.
Гарцев вернулся. Увидев Михея с женой в саду, сел поодаль. Над садом опрокинулся зеленый ковш Большой Медведицы. Сидели на лавочке у родничка, что бил светлыми минеральными ключами. Тихо вспоминали жизнь. Вода шумела по-иному - глохла в ветвях поваленных танком деревьев.
- Всем время нашел на беседу, - говорит Ульяна, - а со мной лет двадцать так не сидел.
- Виноват, мать, правду говоришь. Как на вокзале диспетчером пробыл одни поезда отправлял, другие поджидал, сам ни на каком не уехал, и с тобой был как в разлуке, прожила ты вороной на плетне.
- Ты меня прости, отец, - просит она его.
- И ты меня...
Она обняла его ноги, беззвучно затряслась в плаче. Выступили слезы и у Михея - старость не радость. Но он слез никогда не показывал. И душой остался чистым.
Ульяна просит:
- Надень хоть теперь кольцо обручальное - двадцать лет ношу на своем пальце.
- Не надену.
Синяя августовская ночь. Шумит вода. Мерещатся в ней спины крокодильи.
ОПЕРАЦИЯ "УКРАИНА"
Немецкий комендант, наряду с приказами о сдаче холодного и огнестрельного оружия, о часах хождения но улицам, с призывами записываться в германскую армию, объявил: лицам еврейской национальности зарегистрироваться в военной полиции и нашить на одежду "шестиугольную звезду царя Давида, дабы жида было видно издали". Испуганные евреи подняли головы, ободрились - регистрация, значит, еще не смерть, как на Украине. Они не знали, что начавшаяся регистрацией операция как раз называлась "Украина" - на этот раз просто, без р о м а н т и з м а, применяемого на Украине, в Белоруссии, где подобные операции именовались по-немецки в о з в ы ш е н н о: "Синий туман", "Лесные сны", "Тихое утро", "Фиалки", как еще раньше в самой Германии были "Кристальная ночь", "Ночь длинных ножей" - последнее без особой драпировки.
На чердаке у Бочаровых нашли еврейских детей - и Бочаровых увели, несмотря на "политику дружбы". Ивановы прятали еврейскую семью - Ивановых забрали, а евреев отпустили с миром, наказав лишь нашить звезду и зарегистрироваться. Вскоре прибыли "С и о н с к и е п р о т о к о л ы", отпечатанные в Риге. Смысл протоколов сионских мудрецов - евреи намерены поработить мир. Это помимо вины Голгофы. Книжки раздавались населению бесплатно.
День пришел неожиданно быстро. Сотни машин полевой полиции остановились у квартир евреев в один час. Разрешили брать любое количество багажа - это успокаивало: мертвым багаж не нужен. Указывали: взять запас еды - значит, везут в лагерь.
Мария Есаулова помогала собраться давним, еще по детству, друзьям. Гулянские жили неподалеку от Невзоровых. В свободное время прислуга играла с детьми Якова Львовича, зубного врача. Дети тоже стали зубными врачами. Когда Петька Глотов избил после свадьбы Марию, Гулянские долго ее лечили. В благодарность Мария помогала им по дому - мыла, стирала, иногда забегала на чашку чая или в дурака сыграть. В голодные годы они не раз помогали ей хлебом и платьем.
Когда вещи были увязаны, уложен инструмент стоматолога, зашит в одежду припой для золота и нержавеющей стали, Мария записала фронтовые адреса детей Гулянских. Пышная, с красной медью волос Рахиль Абрамовна сняла с себя кольца, серьги и цепь:
- Возьми, Маруся, на память о нас.
Мария подержала в руках золотые и бриллиантовые украшения и вернула:
- Что ты, Хилечка, береги - может, откупиться придется.
- Нет, - сказал муж Сергей Яковлевич. - Этот перстень обязательно возьми, ему пять тысяч лет, копия печати Соломона. Если встретимся, мы выкупим его у тебя. Пока он цел, нам ничто не угрожает.
Мария надела на палец перстень-печать.
- Зачем ты обманываешь, Сережа, - сказала Рахиль Абрамовна. - Ты никогда не говорил, что это талисман и что ты веришь в него.
- Теперь сказал. Должен человек даже проклятого племени иметь надежду и утешать себя. Вот и Эсхил писал об этом. - Он посмотрел на богатую, в три стены, библиотеку. - Давай считать, что наша жизнь в этой алмазной капле. Мы ведь встретимся, Маруся?