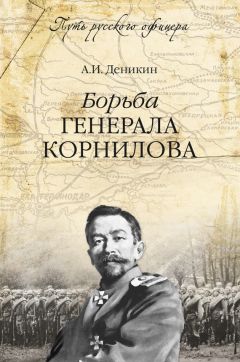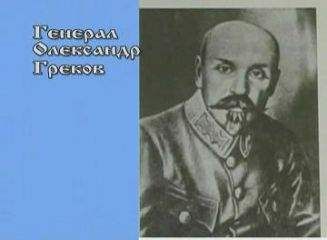Федор Степун - Сочинения
Вот в общих чертах кривая Шеллингова развития. Она намечена здесь лишь беглым пунктиром. Но останавливаться подробнее на систематических построениях Шеллинга нам не кажется нужным. Его система постоянно упоминается и Одоевским, и Киреевским, и Хомяковым, но никто из названных мыслителей никогда не углубляется в детали ее логической природы. Если бы мы занялись здесь передачей натурфилософских построений Шеллинга — если бы мы показали, как они, отрешенные до полной самостоятельности, вовлекаются в системе «трансцендентального идеализма» в общую схему фихтевской конструкции, как в неустойчивом параллелизме развиваются два ряда сознательного и бессознательного «Я», природы и истории, чтобы слиться затем в венчающем единстве эстетической функции; если бы мы показали, как дальнейший рост эстетической тенденции приводит Шеллинга уже в его философии тождества к вполне опознанному догматизму в духе неоспинозизма Гердера и Гете и т.д., то мы едва ли бы поняли, чем, собственно говоря, Шеллинг был так дорог русскому славянофильству, почему он сыграл в развитии русской мысли такую единственную в своем роде роль.
Чтобы понять эту роль, нужно перейти, как любил выражаться Фридрих Шлегель, от системы к «духу системы». А дух этот надо искать в самых недрах романтического миросозерцания. Шеллинг был так бесконечно нужен и близок нарождающемуся сознанию России не тем, что он смог сказать, а тем несказанным, что стояло за ним. Метафизика романтизма сыграла в России громадную роль не как теоретическая истина, а как символ наличности новых на Западе и близких нам переживаний. Это косвенно доказывается уже тем, что западный романтизм не создал у нас научно-объективной философии, а создал политику, публицистику, проповедь и миросозерцание.
Миросозерцание романтизма, которое глубоко талантливый епуш КлгсЬег назвал «чувством пробуждения души», связано прежде всего с тою новой позицией, которую Кант указал человеческому сознанию в отношении к миру вещей. Раньше этот мир стоял как бы на том берегу. Критика чистого разума уничтожила это понятие иного берега. Все чуждое до сих пор духу она сделала близким ему, все запредельное она вовлекла в пределы его самодовлеющих законов. Пустыни прошедшего и дали грядущего, в необозримости которых блуждал раньше человеческий дух, явили при свете «Критики» подлинную природу свою, как особые области сознания, специфические формы синтеза. Конечно, такое понимание или, вернее, переживание критицизма выходило далеко за пределы кантонского настроения и всех сознательных его тенденций. Оно могло вырасти лишь путем последовательной подмены кантовской трансцендентальной апперцепции — этого «инвентаря логических ценностей» — сначала творческой динамикой фихтевского «Я», а впоследствии всеобъемлющею глубиной гетевского гения.
Насколько эта подмена, с точки зрения гносеологической, должна считаться беспринципным хаосом, настолько же, с общекультурной точки зрения, она должна быть признана органическим синтезом. Лишь в атмосфере этой подмены могло вырасти в Германии начала ХIХ века то глубоко значительное настроение громадной ответственности, светлой радости и энтузиазма, которое характеризует зарождающийся романтизм и коренится в новой позиции духа как начала всевластного. Лишь в этой атмосфере могла зародиться та тоска ожидания, которою дышит любой образ Новалиса и любой фрагмент Фридриха Шлегеля. Дух, как бы впервые нашедший себя, естественно ждет, что лишь теперь откроется ему вся святость подлинной жизни, естественно мнит, что все отошедшее было лишь преддверием и ступенью к тому подлинно ценному и единственно нужному, что тихо притаилось на бледных еще горизонтах. Всюду зарождается и растет чувство мессианской тоски, чувство великих канунов; все охвачены благоговейным ожиданием, все готовятся к встрече грядущего, все жаждут преображения своих душ, все слышат уже новые ритмы еще не народившихся переживаний. Растет ощущение торжественности жизни, и все чувствуют себя жертвами и жрецами того «нового, золотого времени, с темными бесконечными глазами», о котором мечтал Новалис.
Но чего же ждет романтизм от грядущего? Какою мыслью, каким чувством должно быть отмечено его грядущее лицо?
Настоящее и недавнее прошлое представляется романтизму всегда как бессильная в своем атомизме и поверхностная в своем рационализме культура жизни и мысли.
«Полное разъединение и обособление человеческих сил, — пишет Фридрих Шлегель, — которые могут оставаться здоровыми только в свободном единстве, и есть, собственно говоря, наследственный грех современной культуры». От этого разъединения и обособления романтизм и стремится к универсальному синтезу, к положительному всеединству. Под гнетом его он и мечтает о грядущем, как о любовном соединении всех противоречий, как о синтетическом воскресении науки, философии и искусства во славу полной и всеобъемлющей жизни...
Эта идея универсального синтеза — главная, любимая мысль романтизма. Жажда, предчувствие его — жизненный нерв романтического миросозерцания. «Разве не видите вы страшного потрясения, — пишет Фридрих Шлегель, — разве не чуете новых рождений? Разве вы не знаете, что из одного средоточия должна изойти полнота всякого движения». Но где же искать этот центр? Ответ ясен, продолжает он дальше: все явления, окружающие нас, становятся знамением воскресения религии, знамением всеобщего преображения. С острою болью ощущает Новалис полную утрату религиозного начала в современной ему Европе. Со страшной тоскою пишет, что «Бог стал на Западе праздным созерцателем той великой и трогательной игры, которую затеяли при свете своего разума ученые и художники». Ему ясно, что одни мирские силы не смогут создать прочного мира среди враждующих элементов европейской культуры. И он пламенно призывает третье начало — объединяющее в себя элементы этого мира и мира иного. Верующая душа его зрит зарождение универсальной индивидуальности, новой истории, нового человечества, сладкого соединения молодой Церкви и любящего Бога; она предчувствует проникновенное зачатие нового Мессии и вдумчиво грезит, охваченная сладким стыдом великих надежд.
Эта страстная тоска по религиозному преображению жизни проходит красною нитью через всю историю немецкого романтизма. Она выразилась у Шеллинга в смене примата эстетического разума приматом религиозного сознания, в замене его «системы трансцендентального идеализма» — «философией мифологии и откровения»; в переходе Фридриха Шлегеля — этого борца за идеал античного мира — в лоно папской церкви и в сумасшествии несчастного Гольдерлина, беззаветно влюбленного в красоту греческой жизни.
В чем же, однако, заключается особенность религиозного переживания? При наличии каких психологических предпосылок возможно религиозное преображение жизни? На этот вопрос романтизм дал два ответа. Первый, принадлежащий Шлейермахеру и не оказавший на развитие славянофильской доктрины никакого влияния, заключается в стремлении отграничить религиозное начало в человеке от других смежных ему областей, определить его в его отдельности и самостоятельной отрешенности как чувство первичной зависимости. Этот взгляд на религиозный принцип, на религиозное переживание, не мог быть, конечно, принят ни Новалисом, ни Шлегелем, ни Шеллингом. Не мог быть принят уже потому, что признаваемое за часть среди частей, за силу среди сил религиозное начало не могло быть одновременно возвышено до значения универсальной синтетической силы. Стремление к этому синтезу, гнетущая обремененность полным распадом культурной жизни, душевных сил и привели романтизм ко второму, обратному пониманию психологической особенности религиозного переживания. Не чем-либо одним среди многого другого, а единым во всем мыслят Новалис, Шлегель и Шеллинг последнего периода религиозное начало. «Религия, — пишет Фридрих Шлегель, — не есть часть культуры (ВНдипз), не есть звено в человечестве, а есть центр всего остального, всюду первое и высшее, всегда изначальное». «Религия — это всеоживляющая мировая душа, четвертый невидимый элемент философии, морали, поэзии, который всюду и всегда тихо присутствует». Если, таким образом, для Шлейермахера религиозная ценность есть существенно самобытное явление психической жизни, ценность субстанциальная, то для Шлегеля она есть лишь ценность отношения, нечто такое, что в субстанциальной подлинности своей вообще не может быть явлено в плоскости психических переживаний, а лишь отражено в ней особенностью душевного ритма.
Закон этого религиозного ритма есть закон полнозвучности души; религиозное переживание возможно только там, где есть, по словам Шлегеля, «окрыленная множественность» и «единство бесконечной полноты». На почве этих положений романтизм и постулирует как основную предпосылку всякой синтетической или религиозной культуры гармонически замкнутую в себе личность, т.е. личность, постоянно пребывающую в полноте возможных для нее отношений к миру. Из этого положения проистекает еще одно следствие, глубоко важное для всякого романтизма. Дело в том, что всякое определенное культурное делание невозможно как реакция полноты человеческих сил на полноту противостоящего мира, т.е. невозможно как отношение целого к целому, а возможно лишь как реакция изолированного до некоторой степени душевного начала на определенную часть мирового целого, т.е. как отношение частей. Но признавая единственно достойным для человека состоянием пребывание его в синтетической полноте всех своих душевных сил, романтизм неминуемо должен был прийти к отрицанию первенствующего значения ценностей объективированных (Се§еп$1ап(15уег1е) и поставить выше их ценности состояния (2из1ап<15уег1е), Он должен был творчество жизни поставить выше творчества в жизни и неявляемую сущность ее выше всяких ее проявлений. Таким образом, примат жизни является необходимым следствием синтетических стремлений романтизма.