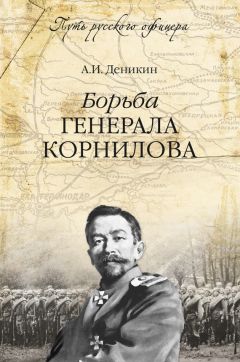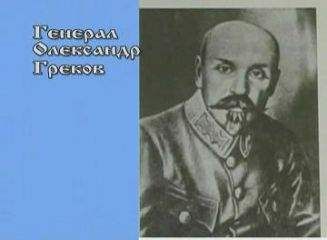Федор Степун - Сочинения
Жить во имя религиозной свободы — это как раз и значит сохранять чувство своего человеческого достоинства, не давая опустить себя до уровня скота, вола подъяремного. Но понятно, что почти невозможно сохранить чувство свободы при тоталитарно-фашистском режиме. Нужна демократия. Есть ли шанс восстановить ее в России — стране православной? Можно ли открыть глубинный смысл православия, не ограничиваясь обрядами и умением затеплить свечечку перед лампадкой (чему умилялись российские православные философы), как возможной силы для становления свободы и демократии? Ведь Степун человек действия, идеи. По словам уже цитированного нами Льва Зандера, «можно поэтому сказать, что Ф.А. является христианином "убежденным", а не "бытовым"; и это обстоятельство имеет в его творчестве очень большое значение. Ибо он внес в свое христианское миросозерцание ту честность мысли и ту бескомпромиссность нравственной воли, которые так сильны в кантианстве всех оттенков (курсив мой. — В К.). И это придает его писаниям и словам совершенно особую силу и значительность: слова у него не расходятся с делом; и компромиссов (которые часто шокируют нас в «бытовом исповедничестве») он не допускает. Христианство для него — не система теоретических истин и не институт Церкви, а жизнь, существование (слово это не передает характера термина Existenz, каковым он пользуется, противополагая безбожие христианству)»[96].
Как и Федотов, Степун ищет путей, которые позволили бы не просто оживить православие в России, но сделать его основой демократических изменений. Иными словами, решить вопрос «о возможной роли православия в судьбе пореволюционной Россию)[97]. Ведь он не раз говорил, что Россия может ждать от своих изгнанных мыслителей не организации вооруженной интервенции, а той идеологии, которая позволит ей существовать достойно. Так способно ли на это православие? Он предлагает следующее рассуждение. Даже «оставляя в стороне историю демократии, нельзя не видеть, что ее основной принцип — принцип защиты свободы мнения как формы коллективного искания освобождающей истины — должен быть близок духу христианской политики. Конечно, верховная Истина в христианстве дана. Но в своем нераскрытом виде она недостаточна для разрешения конкретных, культурно-политических и социальных вопросов[98]. <...> В католичестве это раскрытие совершается под знаком догмата о непогрешимости. Православие этого догмата не знает. Миросозерцательное раскрытие верховной Истины христианства возможно в православии <...> лишь на путях личного религиозного творчества. Пути эти неизбежно приводят к многообразию христианских миросозерцании, а тем самым и к многообразию решений тех или иных социально-политических вопросов». А уж «многообразие политических миросозерцании само требует демократической, а не диктата-риально-фашистской организации политической жизни»[99].
Это был идейный шанс. Но не туда смотрела Клио. Роль творцов идей, определявших судьбу человечества, досталась большевизму и фашизму. Русские европейцы, видевшие крах родившегося пять столетий назад в Возрождении христианского гуманизма, чувствовавшие надвигающееся новое Средневековье, вполне отдававшие себе отчет в неподлинности, игровом характере Серебряного века, который двусмысленно именовали «русским возрождением», но который привел к тоталитарному срыву[100], пытались найти идеологию, чтобы сызнова пробудить пафос подлинно всеевропейского Возрождения. Задача по-своему грандиозная. Но решать ее приходилось в ужасе войны и гибели людей, в зареве пожаров от горевших домов и книг, в очевидной перенасыщенности интеллектуального пространства смыслами, которым уже никто не верил. Они попали в ситуацию, как называл ее Степун, «никем почти не осознаваемой метафизической инфляции»[101].
Неудача?..
Их слов не слышали. Более того, издатели «Нового града» Бунаков-Фондаминский и мать Мария погибли в нацистских концлагерях, Федотову удалось эмигрировать в США, а Степун в 1937 году был лишен нацистами профессорской кафедры в Дрезденской высшей школе и права на преподавание «за русофильство и жидофильство», но как ариец и антибольшевик уцелел. В фашистско-немецком хозяйстве (Ordung muВ sein!) всякая деталька могла пригодиться: Степуна не трогали. Дом его был разбомблен, он скитался по Германии в поисках заработка.
После разгрома гитлеризма он получает кафедру в Мюнхене. Если для своих российских соплеменников он выступал как представитель германской культуры, то перед немцами он выступил проповедником и толкователем культуры русской. Таков был внутренний пафос его Existenz. Его книги о России вызывали волны восторга и внимания.
А затем Степун глубоко уходит в прошлое, пытаясь понять свой век и причины его катастрофы. Душой и памятью он снова жил в России, писал свои блистательные мемуары, давшие ему многократно повторенное всеми журналами и газетами имя «философа-художника». Писал в основном по-немецки, но после публикации на немецком языке трехтомных мемуаров сам сделал русский двухтомник и сумел его опубликовать.
Эта книга своими идеями еще раз подтвердила его право на пребывание среди избранных умов Европы. Такое избранничество решается не прижизненной сумасшедшей славой (политической или шоу-мейкерской), а сложным переплетением культурных и исторических потребностей, которые сохраняют подлинные, экзистенциально пережитые идеи. И мыслителю, быть может, достаточно, что он произнес свое Слово.
Степун был столь же блестящ, как Герцен, и внешне его судьба напоминала герценскую, но, по сути, по позиции — его полным антиподом. В отличие от революционного мыслителя прошлого века, мечтавшего, чтобы Россия обогнала Европу и показала ей пример, Степун говорил о возможном единстве Восточной и Западной Европы на основе христиански-человеческих, демократических норм общежития. Эти его стремления понятны нам сейчас. И более чем понятны. Их воплощение необходимо, чтобы избежать новой катастрофы. Но по-прежнему остается нерешенным вопрос, сможет ли наконец наша действительность стать разумной, т.е. и в самом деле действительностью, а не очередным фантомом.
В. К. Кантор
Жизнь и творчество
Предисловие
Предлагаемая книга не сборник статей. Статьи, собранные мною под заглавием «Жизнь и творчество», представляют собою вполне определенное единство, притом двойное: во-первых, историческое, во-вторых, систематическое.
В статьях о немецком романтизме и славянофильстве, о Шлегеле и о двух современных немецких романтиках, Рильке и Шпенглере, я исследую природу и соблазн той родственной мне философии романтизма, на основе которой, в конце концов, строю свое собственное философское миросозерцание, главные линии которого я пытался наметить в центральной статье предлагаемого сборника.
Что против моих очерков можно очень и очень протестовать, я знаю.
Конечно, славянофилы не только ученики немецких университетов, но и сыны православной церкви, и, конечно, их Россия не только юная Европа, но и древняя Азия.
И, конечно, мой Шлегель глубже погружен в несказуемое жизни, чем Шлегель — деятельнейший организатор романтического движения. Его. любовь к Каролине мною слишком углублена, его лень слишком онтологизирована и повернута лицом на восток.
Рильке мною уменьшен и упрощен. Уменьшен вводящим в его творчество громоздким анализом Плотина и Эккехарга Упрощен тем, что взят исключительно как мистик и автор «Книги часов». Но Рильке еще и друг Родэна, являющийся в своей прозе и в своих новых стихах величайшим барочным пластиком, импрессионистом среди поэтов своего поколения.
Если Рильке мною уменьшен и упрощен, то Шпенглер, наоборот, усложнен и романтически возвышен.
Объяснять, в чем для меня оправдание такого подхода к исследуемым мною явлениям, в предисловии невозможно. Надеюсь, что некоторое объяснение читатель найдет в самой книге.
Ф. Степун
Немецкий романтизм и русское славянофильство[102]
I
Наряду с философской системой Фихте и с художественным творчеством Гете, Фридрих Шлегель всегда определял французскую революцию как величайшую «тенденцию времени», как то «универсальное землетрясение», которое должно было произвести в XIX столетии полную «переоценку всех ценностей».
Но если французская революция сыграла такую роль на Западе, то не меньшее влияние оказала она и на ход русского духовного развития. Победа над французской армией вызвала в России, с одной стороны, сознание своей силы и своего значения, а с другой — сознание громадной дистанции между некультурностью России и культурою Запада, чем и превратила поставленный Наполеоном вопрос о праве России на самостоятельное и независимое существование в более глубокий и значительный: о необходимости достойного существования, о нашей национальной задаче.