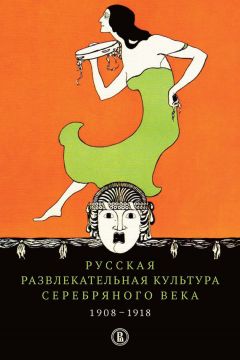Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
2 сентября (лечебница Петра Ивановича
Постникова), воскресение.
Сегодня меня 1-ый раз посадили на кресло, 12 дней я лежала пластом. Оперировали — аппендицит. Как странно — вот и еще новое переживание. Нужно смотреть бодро на все.
Из Парижа я приехала в Малаховку — играла там, ездила больная совсем в Кукушку и Царицыно, была влюблена в премьера Ленина[729] (безрезультатно, и слава Богу). В результате играла успешно. И после бурных партий в крокет приехала сюда. Лежу здесь, среди массы цветов (еще ни один период моей жизни не был так засыпан цветами, как моя болезнь). В кружевном капоре, тонких с кружевами рубашках, среди цветов — мне казалось, я сделала свою болезнь красивой.
И около меня тайно для многих лежит Таро и Каббала. Кое-что я все же приобрела из них за свою болезнь. Не хочется думать о будущем, так хорошо было недвижно лежать на спине и не думать о мире и людях в отдельности. Здесь только мир «творимый», полный цветов, солнца и людей вообще, и шум с улицы казался шумом машины, где бьются люди. Не хотелось входить к ним. И ощущение операции, подготовка к ней и момент засыпания под хлороформом с сознанием, что сейчас мне разрежут живот, и потом пробуждение с жженьем и болью в ране, с тошнотой от хлороформа и болью в спине, — все куда-то уходит и все ничто <по сравнении> с болью от людей и от тревоги за карьеру и самолюбие. Что за новые раны готовятся ему, и нельзя заснуть на время от них под хлороформом с риском проснуться, хотя бы и с тошнотой. Тошнота есть, но хлороформа нет. От своих м<артинистов> из Парижа часто имею вести и сношения — письмами и астрально. Как чудесна жизнь, как велик Бог и как ничтожны мы, люди. Как смешны мои уколы по самолюбию с Божественной высоты мудрости. Но сил отойти от мира еще нет у меня.
<1913> Петербург Крюков канал 6, кв. 70, тел. 33–03.
13 февраля — среда.
Вот если бы открыть мой дневник, то поразительна там смена лиц, дней, годов. Я так мало пишу, и зачем пишу — не знаю.
Ну, начну с фактов. Здесь живу на квартире у сестры знаменитой кокотки Шуры Зверька — Елизаветы Ивановны Устиновой. Она тоже в своем роде. Но со стороны мы не так рисуем себе и жизнь, и их жизнь. С ней я живу всю зиму бок о бок и ничего не скрывая, но в жизнь она мою не мешается, и я в ее нет.
В начале года много я плакала, и как я рада, что я могла плакать, — болезни моей горничной Мани. Я не знала, что я могу так жить ради кого-то чужого, прислуги, и я счастлива этому. Мне радостно вспоминать, что я ночью скакала на автомобиле с Ашкинази[730] в родильный приют к ней. Что я шла с влюбленным в меня человеком — а он был тогда влюблен в меня — под сводами огромного здания, деревьев и труб фабрики на другой стороне. А она, моя бедная птичка, так была рада мне, обняла и крепко прижала<сь> ко мне, и я творила громко над ней мартинистскую молитву, и плакала, как над любимой сестрой. Тяжело, что она ушла. Тяжело, что я ее не спасла. Теперь у ней крест и венок из незабудок «Мане». А потом я думаю о неудачном сезоне — сценически, и о угаре, что я жила. Сколько слов любви я слышала! Зигфрид Ашкинази, ученый или критик, о мистериях, о Вагнере — и потом я обняла его при расставании, зная, что уже ничего не повторится. Потом ехала по Мойке, была светлая луна, шел снег и в руках были красные розы, много красных роз. Потом приехал Эльснер, я ездила с ним к Калмакову[731], и живопись того, где женщина не обнажена, а даже разорвана, грубо тревожила мою чуственность <так!>, и я не знаю, — момент, и я развратничала бы с Эльснеренком, но как-то отложили и все прошло. После праздников я была у него и уже знала, что это не нужно. А Калмаков был у меня, и я видела, что я ему занятна как женщина, и любо мне было тревожить его, а потом отойти и все кончено; я уже знала тоже, что мне было занятно лишь минуту знать, что и тут в моей власти. А потом вспомнить и Дризена, сериозного барона Дризена[732], его многочисленные телефоны ко мне, поездки с ним по театрам и ресторанам, катание по набережной, его лекции, где я говорила — правда, о близком, о «Заложниках Жизни»[733]. И где я имела успех как женщина. Потом сейчас он болен, бедный, и я ему послала роз. Да, еще помню взгляд предсмертный Комарова Константина Весарионовича <так!>, когда я у них обедала в Петропавловской крепости, где он был комендантом. Я ему сказала, что я надеюсь, что он меня придет посмотреть в театр, а он взял мои две руки и посмотрел так, что мне стало жутко, и я поняла всю ничтожность той нелепой светской фразы, что я сказала, рядом с суровым призраком смерти, что я увидела в нем. А Сологубы-то! я, приехав, жила у них почти две недели, и вечером, вернувшись, пила чай с Федором Кузьмичом, где разговор о Боге и Дьяволе перемешивался с его садизмом и его жутью. А потом их охлаждение, их недоверье и их глубокое убеждение в моей бездарности[734]. И апофеозом пока — я была вчера с ними и Теффи в театре на Вагнере. Шли «Мейстерзингеры». Помню лицо женское без лет Троцкого[735], и вот я была у него, я еще не знала, а он мучился чем-то, а потом стал просить позволить снять с себя маску, и я узнала, что «Я Вам сестра, а не брат», и вдруг я увидела человека, не женщину и не мужчину. Это меня как-то поразило, и я заговорила с ним, и какой жутью веет от этой непривычности. Он — или оно — да тонкая нитка жемчуга на шее, экстаз религиозный, христианство — евангелие и любовь однополая, и слова о том, как это мучительно. Да, Сергей Виталиевич, Вы женщина, Вы средний род; страшно и то еще, что многие физические признаки женщины у него есть.
Потом вот еще жизнь кинула меня на этот год в свою гущу и не дала мне мар<тинистских> радостей. Мои визиты к нелепо глупому Антошевскому[736], мои аспиранты и мои попытки попасть к Мебесу[737], мои письма к Тедеру, все безответно, все мне ничего не сказало, все оттолкнуло меня, и только приезд Лосской[738], какие-то ласковые лучи оттуда, но я всегда хочу идти туда! Сережа не прав, — я не только живу чуственностью <так!> — но нет стимула, но жизнь вся моя против тех моих путей, я у подножия креста и не моя вина, что мрамор холоден, а если и так, если и моя вина, то я слаба, мне нужна поддержка, а ее нет, все толкает меня на другое.
И главное в моей жизни этот год я скажу в конце сегодняшнего дневника, — это Игорь, да, Игорь Северянин, что говорит, что полюбил меня, что дарит мне свои стихи, что пишет их о мне, что проводит со мной долгие ночи[739]. Я прихожу из театра в 11 часов после «Орленка»[740], одеваю свой белый чепчик и сижу, и говорим, говорим, и целуемся, и я, не любя, — как-то люблю, и нет сил оттолкнуть, и люблю Сергея — но и Игоря. И его некрасивое лицо в тени у печи, и его звучный голос чарует меня, а его талант влечет, и я дарю ему себя на краткий срок, и не лгу Сергею, и рада, что Сергей понимает это. Я не уйду от Сергея, п<отому> ч<то> я люблю его, а не Игоря. Но душа Игоря мне близка, мучительно тянет меня к себе его талант, и я знаю, что просто все это не обойдется. И вот стоят присланные им на столе роза и лилия, и я думаю о том, что он придет сегодня или нет. И Сологубы, желая его оттолкнуть от меня, не подозревают, что нельзя обойти меня, нельзя взять у меня то, что я не отдам. И вот эти мои две недели в Петерб<урге> я дарю Игорю, их я буду жить для него, это моя плата, моя дань его таланту, его мукам. Сумеет ли он их принять? А тут еще Русьева просит любви, разврата, хочет, чтоб я окунулась с ней в лесбос. Ах, жизнь, и жутка же ты! — и силой своей воли хочу я сделать из тебя сказку, хочу пережить не одну, а много жизней, и гримируюсь перед зеркалом «Лайдой» в «Эросе и Психее»[741]. И костюм гетеры, и продолговатые мои глаза, и плеск фонтана (капли умывальника), и жара юга (невероятно душная уборная), — все я окрашу для себя и окрашиваю мечтой, фантазией, и вот сбылась, Сологуб, твоя «творимая жизнь»[742], и ты и не знаешь, что я ею живу, что и ты у меня — не ты, а творимый мной образ. И моя любовь к старинным вещам, и моя дружба с Лелей Неверовой, — все «творимая жизнь», и мой м<артинизм>. Да будет прославлено имя Твое, Господи, — создавший жизнь и меня в ней, не остави меня и среди слез дай мне радостей, чтобы боль моего сердца не омрачила мою душу, и я впивала бы Твои лучи, Твоего образа-солнца.
8 марта, пятница, вечер. Москва.
Сижу тихо дома. Устала. Да, уехала из Петерб<урга>. С Игорем — расставалась грустно. Я — как с этапом жизни, как с книгой, что я читала, он — не знаю. Он говорил, что любил, что безумно страдал, но кто их знает, поэтов, кто знает его? Не знаю и не стараюсь узнать. Зачем?[743] Здесь я была уже во многих местах, но нового ничего нет. Работа, работа!.. Устраиваю собрания М<артинистов> у себя. Гостит Ауслендер (жена)[744], бывает Леля. Ну вот еще Вавка — рисую ее портрет, учу английский, уроки пения, Далькроз — ритмическая гимнастика. Дом, садоводство, maman. Ах, жизнь, жизнь. На будущий год мне 30 лет. Жутко мне от сознания прожитых лет. Что же? Долго ли я буду еще молода? Долго ли красива? Не знаю, ничего не знаю. Вот и зима кончается. На днях была в Малаховке. — Даже там среди снега чуется весна. И вот чего-то жаль. Точно что-то допето. Это, верно, кончились сказки этой зимы 1913 г. Какая она была — лучшая зима моей жизни. Сергея я видела много, и жила, жила. Да, вот еще новое начинается, это повсюду. Как хочется за границу, и нельзя — надо работать, работать. Иду, на пути своем молюсь о будущем.