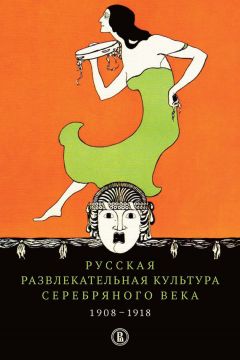Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
20 марта.
ПетербургЯ уже опять месяц здесь. Уезжала на 4-ую неделю в Москву, вернулась. Там Леля — мы с ней такие же друзья, еще больше и нежнее, по крайней мере, я. На фоне всех дурных отношений, сплетен, зависти и т. д. так ценишь умное отношение к себе, хорошее так редко я вижу. В Петерб<ург> за мной поехал Алексей Дм. Расторгуев[758]. Я думаю, не потому, что он так влюблен (это гипнотизер Желанкин мне очень усиленно говорил, объясняясь по этому случаю и сам мне в любви), а больше потому, что нет в нем ни энергии, ни жизни. Была ли я им увлечена? Да, пожалуй, немного. Он красивый, высокий, эфектный <так!>, неглупый, хороший голос. Как-то вдруг стал мне желанен. А теперь? Не знаю. Это все так мало отражается на моей жизни. Как любовник он дал мне, пожалуй, больше других. Сейчас его нет здесь. Игорь Северянин около меня. Мне посвящена его новая книга «Златолира» вся целиком[759]. Много стихов мне пишет. Что я? Да, я совсем уже холодна. Так больше, вижусь для препровождения времени. Ну, вот я и цинична, я далека от них, они мне нужны только для забавы. Неужели же я так и буду всегда, — неужели я уж так цинична? Нет, Игорю я плачу за лето боли и огорчений. А Расторгуеву за ломание, за ложь со мной.
Бекерат написал мой портрет[760]. Говорят, хорошо. Что-то уж очень животное сквозит там во мне. Мне не нравится это. Со мной здесь сейчас Вавка. Она еще все нет да нет и подумывает о покинутом ею муже. Вот тоже на мне все собак вешают. И не знаю, и что я им всем далась. Неужели же я так зла — ведь нет же, а что влияю я на жизнь людей, так не моя же вина, что у них не энергия, а одна слякоть в душе. Пишу сейчас своих баб. Нужно работать, а то так и не кончу к осени. Сейчас сижу за леди Гамильтон. Играю здесь «Ставку князя Матвея». Все еще ее. Надоело уж мне — ежедневно. Здесь все больше новые исполнители; по-моему, идет не лучше, чем в Москве, — скорей хуже. Я как здесь, так и там прошла первым номером. Кругом очень милы, но толку от этого пока еще не вижу. Сережик милый — все тот же, на все мои проделки смотрит ласково, и я чуствую <так!>, что как-то виновата перед ним, и не знаю, и не умею это изменить. Пусть будет что будет — я не лгала и не ломалась перед ним, когда он понимал меня. Себя не переделаешь. Хочу за границу, не знаю еще, как и что. Питер люблю, но сейчас что<-то> никак не вмещусь в нем, все чего-то не хватает, все что-то не то. На моем горизонте сейчас Игорь, Вавка, Ауслендеры, Рутковская (наша Актриса)[761] — вот и все. Как-то мелькают издали барон Дризен, Зноско-Боровский, Елизавета Ивановна, у которой я живу (уже на Фонтанке 18 кв. 27) (милый Крюков канал!), Нина Анерт и т. д.
Париж
10 апреля (четверг).
Avenue Kleber. Hôtel Baltimore. После блестящего концерта Игоря Северянина, где я прошла лучше всех, где меня встретили и проводили аплодисментами, я выехала в Варшаву. А сейчас вот и в Париже. Сижу одна в отеле. Чужой город, чужие люди, и мне страшно. Жутко. Где-то Сережик, свои, Игорь, Расторгуев и еще, еще близкие люди, а я здесь, затерянная в городе безумия. Но хочу использовать этот город еще раз, еще раз взять, что могу, и уже скоро не приеду сюда больше. В Варшаве видела Нину — она жуткое впечатление производит, постарела очень, но умный она и живой человек, и за это ей многое прощаю. Видела Чинского — да, за ним не пойдешь никуда[762], — обидно это все. Вот еще здесь попробую с м<артинистами> дело наладить, жутко и как-то ненужно все то, что в нашем бедном о<рдене> делается. Ну, что будет, я верю в волю могучую, верю в него, единого моего руководителя, пусть я ошибаюсь, — лишь бы он мне простил мою беспутную жизнь. Трудно лгать себе самой, трудней всего на свете. Ну, я могу жить иначе, но зачем? Нужно, чтоб я не только поверила, но и захотела иной жизни. А иначе это будет ложь себе самой. Ужасная ложь, все.
19 мая (понедельник).
Дрезден Weiser Hirsch Sanatorium доктора ЛеманаСижу здесь 4 недели. Хочется из каждого города каких-то необычайных воспоминаний, каких-то еще не испытанных переживаний. Здесь я лечусь. Гуляла с Биском (молодой еврей-поэт), он славный, дружила с ним, слегка кокетничала[763]. В санатории то что называется — «имела успех». Но нет никого, кто бы заинтересовал, а иначе все скучно. Кругом толстые венгерцы, противные немецкие торговцы с трясущимися руками или сальными глазами.
Ничего, что было бы как-нибудь занятно, но для меня это все полезно. Отдохну. Приготовлюсь к зиме. Вот вылечу ли свой желудок — это я не знаю. Была два дня Леля и уехала. Зачем-то всю свою жизнь она ломает. Хочет еще сюда вернуться, но вернется ли? Занимаюсь английским. Пишу Анжелику Кауфман[764]. Кажется, должна бы жизнь казаться полной, а нет, все чего-то нет, все не полно без увлечения для меня.
И хочется и не хочется домой — очень скучно без Сережи. Все-таки он был и будет для меня единственным, и никто ни на одну секунду не затмил его облика в моей душе. До немецких м<артинистов> не могу добраться. Виноват Teder, скрывает их адреса, хочет все прибрать к своим рукам. Что-то еще я переживу в этой области?
2 июня (понедельник).[765]
Прослушала я с Miss Woker концерт в Luisenhof — и со слезами расстались. Милая старушка, я очень, очень привязалась к ней. Из всего Weiser Hirsch’a ее мне больше всего жаль. И как призыв к чему-то звучали мне колокола из «Парсифаля» сегодня.
Война
11 октября.
Боже мой! Лето — великолепные дни, залитые солнцем. Театр — Сергей, Кобра, Митя[766]. И война — моего милого взяли туда[767]. Боже мой, Боже мой! Я ездила на четыре дня в Ковно, четыре дня я украла из этого безумного, ужасного года. Боже мой! Если есть молитва за него, я ее творю! Все, все возьми, дай мне моего Сережу! Зачем мне театры, жизнь, радость! Боже, не бери у меня Сережи! Что будет, что будет! Боже, неужели ты не услышишь меня? Боже мой! Если есть страдания, то я их переживаю, если есть муки — я их чуствую <так!>. Сережа. Как страшно. Кровь, всюду кровь! Сережик мой! Боже мой, сжалься — не бери его жизни — ведь он еще нужен миру. Боже мой, пусть еще я больше мучусь, только его, его оставь мне!
4 ноября (вторник).
Боже мой! И не видно конца крови, не видно конца моей муке. Что делать, как молиться? Ничего кроме этого не осталось. Кровь и страх за Сережу, все события ушли другие — никого, ничего не нужно. Тяжело, невыносимо тяжело. Милый мой не со мной, милый в опасности; что весь мир, что все лучи солнца — со мной нет моего милого. У меня есть только молитва и слезы. Бедные жалкие слезы, разве вы когда-нибудь чему-нибудь помогали? Боже мой, Боже мой! Что можно говорить еще, о чем думать, чем жить? Милый мой! И только слезы, только горе! Боже, сохрани нас и помилуй!
12 февраля (1915 года).
Странная жестокая судьба! Как усмешка злобная промелькнуло известие о том, что мы с Сережей увидимся, и вот теперь — плен или его смерть, неизвестно. Боже мой, вот оно, горе, пришло, и чтоб еще больней было, то перед этим поманило свиданием. Тихо буду ждать — я обещала любимому ничего не делать до точных известий. Боже мой, мне тяжело. Тут еще эта роль. Странно: как блестяща этот год моя карьера; на фоне этого ужасного года среди тоски и слез вырастает мое имя. Я отдам его, все, что мной добыто, все, все за свою скромную тихую жизнь с любимым, за его ласку, за его душу, близкую, дорогую. — Боже, прими, — дай мне его!
20 февр<аля>.
Я уже не могу ни плакать, ни думать. Слухи, тревога — ничего, ничего не понимаю. Что они? В плену — убиты? Боже, спаси и сохрани моего любимого, дай мир моей душе. Как многое в моей жизни кажется мне мелким и ненужным в сравнении с тем, что творится сейчас во мне и в мире. Беспримерная война! Да, она беспримерна. Жутко, куда вынесет нас «потоп». Милый мой Ежик, я люблю тебя, только теперь я поняла всю силу любви моей. И наши обоюдные измены, наш странный образ жизни для людей — он был знаком нашей любви большой, всеобъемлющей любви. Милый, жив ли ты? Боже, храни его, храни его. Пусть будет мне еще тяжелей, пусть я испытаю все муки, какие возможны, пусть волосы мои будут седы от них. Но сохрани его, сохрани его жизнь, Боже.
4 марта (среда).
Милый мой, говорят, ранен и в плену[768]. Все сведения пока таковы. Всюду навожу справки, всюду пишу. Душа болит, очень я извелась, подурнела — нужно будет лето полечиться. Может, хоть осенью увижу его. Боже, как все это тяжело, измучилась я вся. Только бы увидеться хоть когда-нибудь! Боже мой, до чего жизнь тяжела этот год. Я ему <пишу?> уже на всякий случай. Американский консул говорит, что он в Халле — Halle. Как странна судьба. Там, где я была здоровая, флиртовала, там ему плен. Страшно думать, страшно жить. Мир вокруг живет, движется, только моя жизнь остановилась на одной точке. Я жду, жду, что готовит мне судьба — жизнь или смерть. Если я получу от него известие, то я буду очень довольна хотя бы тем — авось уцелеет. Разлука — тяжело, но все же. Ведь не разлюбит же меня мой любимый за всю тоску о нем, за все муки моей бедной души. Я люблю его, я жду его. Милый, я жду тебя, найди силы души перенести разлуку — я жду тебя, милый, милый! Ты любишь меня, ты мой до конца. Верен ли ты мне там, мой возлюбленный? Верен ли, как я тебе? Милый, я жду тебя, я — жду тебя.