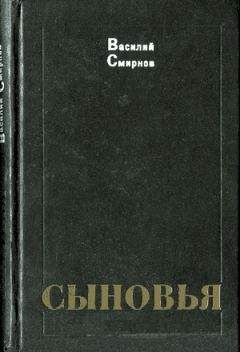Василий Смирнов - Весной Семнадцатого
В избе долго никто не смел сказать слова.
- Сердись не сердись, отец, а нехорошо получилось, - сказала наконец грустно мать. Ни за что обидел человека.
Шурка заплакал.
- А, поди ты... чего понимаешь?! - выругался батя, впервые матерно браня мамку.
- Знамо, нехорошо! - закричал Шурка. - Тебя бы так-то!
- Молча-ать! - грохнул кулаком по кругу, по глине отец, ломая почти готовый горшок.
И в избе опять стало тихо...
А на страстной, перед самым ледоходом, после школы, назябнув на Волге в ожидании, что лед вот-вот, на глазах, тронется, и ничего не дождавшись, злой с холода и голода, а пуще от неудачи, что Волга обманывает, Шурка влетел в избу с твердым намерением устроить матери хороший рев, как он это делал, когда был маленький, что она не торопится его накормить, он подох, как собака, а ей и горюшка мало. Он еще в сенях разинул страдальчески рот пошире, чтобы все это изобразить самым лучшим манером, выложить с криком и подробностями, пронзить мамкино сердце насквозь. Он заранее с наслаждением представлял, как мамка будет поначалу его ругмя ругать, что он незнамо где шляется, выпороть следует, не обедом кормить, а сама поспешно загремит заслонкой в печи, схватится за кочергу. Он, волжский мученик, виноватый и невиноватый (как всегда, это решить трудно), насупясь, не говоря больше слова, сядет за стол, к окошку, на бабуши Матрены место, и вынет из школьной сумки грифельную доску, задачник, грифель, примется делать уроки голодный, вот тебе, мамка, получай сдачу! Мать покричит-покричит и сама пододвинет ему блюдо с надоевшей грибной похлебкой, отрежет горбушку хлеба с горелой корочкой, какую он любит. Но Шурка не станет есть, и тогда, ухаживая за ним, мамка незаметно нальет в чайную чашку молока, - бывает такое счастье в великий пост, даже на последней его неделе.
Ничего похожего в тот день не произошло и не могло произойти. Рот он разинул не от горестного рева и крика, а от страшно радостного удивления: это уже было не диво, а сто див, может, и вся тысяча. То, что он увидел, было, попросту сказать, самое невозможное на свете, отчего ему сразу стало жарко, и он тотчас забыл про обед, мамку, как ее рассердить и разжалобить, выманить молочка. Даже про Волгу позабыл, которая дразнила ребят подвижками, но на самом деле не хотела расставаться с грязно-зеленым, залитым водой льдом, противно всем приметам и трясогузкам.
Да и как не позабыть все, если в избе, на кухне, на табуретке, придвинутой тесно к бате, в его глиняном уголке-царстве возле двери, посиживал себе, сбросив на пол австрийскую шинель, Франц из усадьбы. Отец не работал (новое диво!), серо-голубая, как австрийское сукно, глина с красноватым отблеском вечернего солнца лежала мертвой кучей на неподвижном гончарном круге. В окошке горели стекла от заката. И все кругом отсвечивало близким, жарким огнем, не только сырая глина, но и отдыхавшие, грязные руки отца, синяя бритая скула и подбородок пленного, печная стена и густой дым, заполнявший кухню.
Отец и Франц курили и разговаривали. Они не заметили Шурки - так увлеклись беседой. Он не осмелился поздороваться с пленным, чтобы не помешать.
На цыпочках, прижимаясь к шестку и холодному самовару, стоявшему на полу, под отдушиной, он прошел кухней, самой ее дальней стороной, через красно-сизое облако. Франц и отец мельком взглянули на него и как бы не увидели. Шурка осторожно разделся в спальне, скинул грязные башмаки и полез на печь, на любимое теплое местечко, возле трубы, где кирпичи не остывают, откуда, свесив голову, опершись на локти, славно смотреть и слушать и самому думать.
Матери и Ванятки в избе не чутко, отец и Франц на просторе кадили на всю избу, говорили громко, потому что никто им не мешал и не стеснял. Мужики, известно, любят разговаривать с глазу на глаз, и табак в таком случае здорово помогает разговору, если его, табаку, достаточно в кисетах, можно крутить, клеить языком цигарку за цигаркой и, обжигаясь, щурясь, прикуривать новую от своего же окурка. А в ситцевом кисете, что лежал перед отцом на скамье, самосада, видать, было предостаточно. Кисет, запомнившийся Шурке, красовался розами и васильками, округло-толстый, точно он до отвала наобедался. И заветная отцова, привезенная с войны масленка белой жести с остатками махорки светилась от заката, почти горела на голубых коленях Франца.
Стойте, стойте, что же это такое? Как понять, сообразить? Да ведь батя, скупясь, никогда и никого не угощал своей махоркой. Он сам в последнее время брался за жестянку только после ужина, "на загладок", как он говорил, скручивая махонький-премахонький крючок - одна бумага и три-четыре табачных крупинки, потому что настоящая эта махорка-полукрупка Вахрамеевской фабрики, дареная Устином Павлычем, была на исходе, и батя частенько днем, пока ему мамка не достала, не выменяла на горшки самосада, обманывая себя, жадничая, курил березовые листья с веника, сенную труху и просто угольки из печи, завернутые в бумажку или сунутые в трубку, которую он себе сделал из глины и обжег.
Что же такое произошло сегодня, перевернувшее белый свет? Ровно еще раз прогнали царя в Питере, ей-богу! Не ошибся ли Шурка, может, ему только почудилось, подумалось, масленка с табаком и не собиралась лежать на коленях Франца? Да нет, глядите, пожалуйста, лежит-полеживает на боку, миленькая, правда, с завинченной крышкой, нетронутая. Все равно это было немыслимое, необъяснимое, но страшно радостное событие, как и то, что долговязый Франц снова явился к ним в избу и торчит на табуретке, скинув шинель на пол, чтобы ловчее было разговаривать. Он придвинулся близко к отцу, и, сильно жестикулируя, говорит ему доверительно очень важное, путая от неумения и нетерпения русские слова, часто забываясь, выкрикивая что-то совершенно непонятное по-немецки, как бы лая.
Невозможное, необъяснимое этим не заканчивалось: к суднавке была прислонена накосо преотличнейшая тележка, без бортов, плоская, как ей и положено быть для того, для чего она предназначена, красиво сбитая из свежеоструганных молочно-розоватых дощечек, от которых даже на взгляд пахло хорошо смолой, с двумя белыми осями и четырьмя железными широкими колесиками, взятыми неизвестно откуда, точно специально сделанными для этой тележки. Ну, вылитая, как у безногого Корнея из Починок, даже лучше, будто выкованная по заказу в кузнице, на железном легком ходу, замечательная, которую Шурка всю зиму собирался сладить для бати, да так и не собрался, духу не хватило, ну и железа, конечно. А тут все было новенькое, ладное, как выточенное из кости, особенно березовые крепкие оси, по краям смазанные маслом, не иначе, потому что они блестели, и железные колесики сверкали, отшлифованные рашпилем или еще чем неведомым. Чуть оттолкнись от земли тележка сама покатится, и не удержишь, прямо самоход какой, почище велосипеда.
Но и этого всего в тот день оказалось мало. На суднавке, возле тележки, красовалась пара толкачей-деревяшек, наподобие кирпичиков, с ловко выдолбленными углублениями для пальцев, чтобы, посиживая барином в тележке, толкать ее не голыми руками...
Шурка посмотрел с печи на отца и на Франца, озаренных незакатным весенним солнцем, красных, как Данилино вынутое сердце, пощурился на тележку, на толкачи и обо всем догадался, по крайности он так решил про себя.
Взволнованный, он пытался слушать, о чем толкуют на кухне батя и пленный. Кажется, они понимали друг друга по живым, выразительным движениям рук, особенно пальцев, которые складывались иногда в фигу (по-немецки и по-русски фига есть фига, и больше ничего), сжимались в кулак, грозили кому-то и, распрямясь, манили ладонью, звали других за собой. Отец и Франц понимали больше по кивкам голов, хитрым подмаргиваниям, плевкам, отрывистому смеху, чем по словам. Тем не менее они определенно были довольны этим своим необыкновенным и оживленным разговором, общительно-дружелюбным и согласным. В том не было никакого сомнения. Высоченный Франц, раскачиваясь на табуретке, так и сиял, а батя, взяв с колен пленного жестяную банку с табаком, отвинтив со звоном и скрежетом крышку, щедро сыпал вахрамеевскую настоящую полукрупку в протянутую большую австрийскую ладонь.
Глава IV
ШУРКА ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬСЯ И РАДОВАТЬСЯ
Да, вот какое диво дивное, невозможное сотворилось напоследок в великий пост в родной избе, точно в сказке про счастливую палочку. Нет, бабуше Матрене и не выдумать, Шурка и тот не сообразит, не решится такое сочинить. Не поверишь, а верить надобно: диво самое сотворилось. Вот как бывает иногда на свете, запоминай, парень, мотай на ус.
И все же теперь, весной, самое главное, чем жил Шурка, были не дом, не отец, как раньше, зимой, даже не школа, хотя Григорий Евгеньевич доверил Шурке выдачу ребятам книг из школьной библиотеки и оттого он заважничал. Нет, не дом, не школа, не книжки были для него сейчас самым важным. Самое главное, важное, чем невольно жил теперь Шурка, часто того не замечая, стала удивительная жизнь, которой с недавнего времени зажили-запоживали мужики и бабы, то новое, что творилось на селе, да и подальше села.