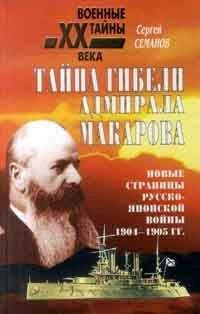Ольга Елисеева - Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века
Кто скрыт под именем «Сеган»? Кто из екатерининских вельмож имел «власть беспредельную», на кого были возложены важнейшие чины? Эти строки княгиня писала одновременно с просьбами «милостивцу Григорию Александровичу» поберечь ее сына, молодого полковника, то от турок, то от дурного климата. «Прошу, батюшка, чтоб его при себе держать и ни отставать, ни метаться противу других в опасности ему не позволять». А в случае мира «выберете его полку в невредном климате квартиру»[62].
Представления оппозиционных публицистов о Потемкине не учитывали ни присоединения Крыма, ни строительства Черноморского флота, ни военных реформ, ни освоения новых земель. Тот факт, что человек без какого бы то ни было видимого права (невидимое существовало: Потемкин и Екатерина II тайно венчались) стал ближайшим сподвижником и в какой-то момент соправителем Северной Минервы, затмевал в глазах современников его реальные заслуги. А. Т. Болотов писал в 1788 году, выражая мнение провинциального дворянства: «Потемкин ворочал всем государством; он родился во вред оному, ненавидел свое отечество и Причинял ему неизреченный вред и несметные убытки алчностью своею к богатству; от него ничего ожидать было не можно, кроме вреда и пагубы… Мы дивились тогда и не знали, что́ с сим человеком, наконец, будет и чем кончится его пышность и величие»[63].
На фоне этих слов неудивительно ни резко отрицательное мнение Щербатова, отмечавшего у князя «властолюбие, пышность, подобострастие ко всем своим хотениям… сребролюбие, захватчивость»[64], ни пассажи Дашковой, ни намеки Фонвизина в пьесе.
Лекарство от неустрашимостиНедостойным вельможам, которые «ищут и значат» у двора, в пьесе противопоставлены люди чести. «Храбрость сердца доказывается в час сражения, — рассуждает Милон, — а неустрашимость души — во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустрашимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать».
Здесь снова звучит намек на Никиту Панина, который в 1763 году в Москве после коронации сказал Екатерине II по поводу ее предполагаемого брака с Григорием Орловым: «Императрица делает, что хочет, но госпожа Орлова не будет русской императрицей»[65]. Произнося эти гордые слова, Никита Иванович слишком сильно отклонился назад, и на шелковых обоях осталось пятно от его пудреного парика. В последующие дни вельможи прикладывались к этому пятну лбами, чтобы набраться смелости перед докладом государыне. Таков подтекст диалога о храбрости и неустрашимости.
Уместно вновь обратиться к мемуарам Дашковой, раз они с Фонвизиным принадлежали в общему дружескому кругу и участвовали в обсуждении сходных тем. Как-то за столом у императрицы, рассказывает княгиня, речь зашла о смелости солдат, идущих на приступ, страхе смерти и самоубийстве. «Я считаю героическим мужеством не храбрость в сражении, — сказала старая подруга Екатерины II, — а способность жертвовать собой и долго страдать… Если будут постоянно тереть тупым деревянным оружием одно и то же место на руке и вы будете терпеть это мучение… я сочту вас мужественнее, чем если бы вы два часа сряду шли прямо на врага». Императрица не сводила с Дашковой глаз. «Я сказала ей, улыбаясь, что никогда ничего не предприму для ускорения… своей смерти»[66].
На первый взгляд речь о поступке частного человека, который под грузом невзгод может захотеть свести счеты с жизнью. Однако княгиня была переводчицей отрывка из поэмы древнеримского стихотворца Марка Лукана в переложении француза Ж. де Барбёфа «Фарсалия». Узнав о победе Цезаря в битве при Фарсале, герой поэмы Катон выбрал самоубийство, поскольку «мужественна смерть почтеннее оков».
Ниспровержены мы на столетья!
Нас одолели мечи,
Чтобы в рабстве мы век пребывали.
Чем заслужил наш внук
Иль далекое внуков потомство
Свет увидать при царях!
Разве бились тогда мы трусливо?
Иль закрывали мы грудь?
Наказанье за робость чужую
Нашу главу тяготит.
Дашкову за глаза порой именовали «Катон-республиканец», вкладывая в это прозвище много иронии, поскольку сама она выбрала покровительство «тирана». Но в 1793 году ей, как директору Академии наук, поставили в вину публикацию трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», где герой тоже предпочел смерть жизни под властью «самодержавного» князя Рюрика:
Что толку в сем, что Рюрик сей героем быть родился?
Какой герой в венце с пути не совратился?
Величья своего отравой упоем.
Самодержавие повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.
Сравним с этими строками рассуждение из «Недоросля»: «Сколь великой душе надобно быть в государе, чтоб стать на стезю истины и никогда б с нее не совращаться! Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных!»
В конце пьесы Вадим восклицает: «Нам ползать ли в толпе тирановых рабов?!» Новгородский воевода говорит, как римлянин-республиканец. Похожа его речь и на строки из конституционного проекта Панина — Фонвизина: «Свободный человек есть тот, который не зависит ни от чьей прихоти; напротив же того, раб деспота есть тот, который ни собою, ни своим имением располагать не может». Если государь не слышит честных вельмож, говорящих от имени закона, «меркнет свет душевных очей его, и летя стремглав в бездну, вопиет он вне ума: „все мое, я все, все ничто“»[67].
Итак, разговоры в оппозиции, эхом которых и стали монологи «Недоросля» и фрагменты «Записок» Дашковой, велись о «гражданских» причинах самоубийства. Восстановим логику: неустрашимость государственного мужа предпочтительнее воинской храбрости; министр, говорящий государю правду, смелее генерала; но если государь отказывается слушать, то из монарха превращается в «тирана» и для его подданных смерть предпочтительнее «рабства». Недаром с приходом Рюрика гражданское чувство «в сердцах держава затворила». Варяг обращается к горожанам:
Вы скиптр мне дали здесь к скончанию напастей
И скиптр сей отнять не в вашей боле власти.
То же могла бы сказать и Екатерина II, взошедшая на престол после переворота 1762 года, когда ей вручили «скиптр», чтобы свергнуть «тирана» Петра III, то есть «к скончанию напастей». Гипотетически императрице отвечал дашковский герой Катон, призывавший к новому восстанию: «Дай же сил для борьбы, коль дала господина, Фортуна!»
Однако разница между литературным героем-тираноборцем и реальным вельможей была разительна. Самоубийство, рассуждает Дашкова в мемуарах, противно религии и показывает недостаток мужества перед лицом Создателя. Следует терпеть. Эта позиция вызвала резкую отповедь Фонвизина во «Всеобщей придворной грамматике», где описаны «подлые души», «презрительнейшим притворством обманывающие публику»: «Вне дворца кажутся Катонами; вопиют против льстецов, ругают язвительно и беспощадно всех тех, которые трепещут единого взора; проповедуют неустрашимость, и по их отзывам кажется, что они одни своею твердостью стерегут целость отечества… но, переступя через порог в чертоги государя, делается с ним совершенное превращение: язык, ругавший льстецов, сам подлаживает им подлейшею лестию; кого ругал за полчаса, перед тем безгласный раб; проповедник неустрашимости боится некстати взглянуть, некстати подойти»[68].
Специалисты не откажутся узнать в этой зарисовке многих деятелей аристократической оппозиции. Вот такие страсти кипели за строкой «скучных» монологов Милона и Стародума.
«Благонравие государства образует благонравие народа»По законам времени ни в пьесе, ни в проекте нельзя было обойтись одной критикой. Следовало показать положительный пример, чтобы публика знала, к чему стремиться. Поэтому дано описание «истинного государя», пекущегося о благе подданных. Отбросив всякую осторожность, Стародум говорит Правдину: «Способы сделать людей добрыми… в руках государя. Как скоро все видят, что без благонравия никто не может выйти в люди; что ни подлой выслугой, ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга; что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми, — тогда всякий находит свою выгоду быть благонравным».
Перед нами сжатое изложение главной мысли панинского проекта: «Одно благонравие государя образует благонравие народа. В его руках пружина, куда повернуть людей: к добродетели или пороку. Все на него смотрят… Он судит народ, а народ судит его правосудие».