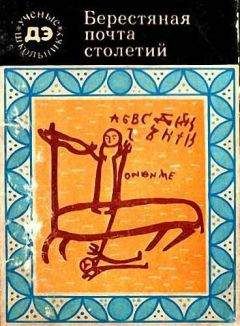Валентин Янин - Я послал тебе бересту
Не нужно только думать, что прочесть и особенно понять грамоту удается в тот день, когда она найдена. Ее приходится много раз брать в руки, проверяя сомнения, возвращаясь к сложным и неразборчивым местам. И если сначала ее читают только сотрудники экспедиции, то после издания круг ее читателей расширяется за счет самых пристрастных и взыскательных специалистов, предлагающих свои поправки и свое иногда неожиданное истолкование текста. Этот процесс вовлекает все новых и новых читателей, порождая книги и статьи, вызывая споры и определяя более глубокие решения. Очень важным этапом чтения и истолкования берестяных грамот стала прекрасная книга академика Льва Владимировича Черепнина «Новгородские берестяные грамоты как исторический источник», опубликованная в 1969 году. Многое в этой книге объяснено иначе, более точно, чем казалось исследователям в прошлые годы. Результаты работы Л. В. Черепнина много раз используются и в нашем рассказе.
Вернемся, однако, в полевую лабораторию. Существует еще одно условие, выполнение которого обязательно. Прежде чем грамота начнет сохнуть, медленно и неизбежно меняясь при высыхании, ее фотографируют и тщательно прорисовывают, создавая тем самым документы, способные до некоторой степени заменить подлинник, частое обращение к которому нежелательно: слишком ценны эти хрупкие берестяные листы. Все прориси грамот выполнены Михаилом Никаноровичем Кисловым.
Последний вопрос, на который нужно здесь ответить: где хранятся грамоты после их изучения и издания! Берестяные прямоты, найденные в 1950-х годах, переданы Новгородской экспедицией в Отдел рукописей Государственного Исторического музея в Москве. С созданием в Новгороде хранилища, способного обеспечить вечную сохранность берестяных документов для науки, их единственным получателем стал Новгородский историко-художественный музей-заповедник. Оба музея широко используют берестяные грамоты в своих экспозициях.
Глава 3
Устами младенца
Лет семьдесят тому назад маститый историк русской (культуры и лидер буржуазной кадетской партии П. Н. Милюков, резюмируя многолетние споры о состоянии грамотности в древней Руси, заявил о собственной позиции в этих спорах. Одни, писал он, считают древнюю Русь чуть ли не поголовно безграмотной, другие допускают возможность признать распространение в ней грамотности. «Источники дают нам слишком мало сведений, чтобы можно было с их помощью доказать верность того или другого взгляда, но весь контекст явлений русской культуры говорит скорее в пользу первого взгляда, чем в пользу последнего».
А вот та же мысль, изложенная другим историком на страницах гимназического учебника: «Тогда письменность ограничивалась списыванием чужого, так как немногие школы… служили лишь для приготовления попов».
С тех пор новые исследования и новые археологические находки постепенно изменяли послуживший Милюкову главным аргументом «общий контекст», формируя новое отношение к старой проблеме. Изучение высших достижений древней Руси в области литературы, зодчества, живописи, прикладного искусства делало все более несостоятельной мысль о том, что удивительные цветы древнерусской культуры цвели на почве поголовной безграмотности и невежества. Новые выводы о высоком техническом уровне древнерусского ремесла, изучение дальних торговых связей древней Руси с Востоком и Западом позволили отчетливо увидеть фигуру грамотного ремесленника и грамотного купца. Исследователи пришли к признанию более широкого проникновения грамотности и образованности в среду древнерусских горожан. Однако даже в год открытия берестяных грамот это признание сопровождалось оговорками, что все же грамотность была в основном привилегией княжеско-боярских и особенно церковных кругов.
Дело в том, что факты, накопленные наукой, были малочисленными и давали самую скудную пищу раздумьям исследователей. Важные теоретические построения питались главным образом умозрительными заключениями. Попы по самой природе своей деятельности не могут обходиться без чтения и письма — значит, они были грамотны. Купцы, обмениваясь с Западом и Востоком, не могут обходиться без торговых книг — значит, они были грамотны. Ремесленникам, совершенствовавшим свои навыки, нужно записывать технологическую рецептуру — значит они были грамотны.
Ссылались, правда, на найденные при раскопках — главным образом в Новгороде — бытовые предметы, с надписями изготовивших их мастеров или владельцев. Но таких надписей к 1951 году даже в новгородских раскопках было найдено не больше десятка. На весах дискуссионных мнений они вряд ли могли перевесить вековой скептицизм поборников мнения о поголовной неграмотности Руси.
И еще одно обстоятельство. Даже соглашаясь, что грамотность на Руси была достоянием не только попов, историки культуры признавали временем, благоприятным просвещению, лишь XI–XII века, а не последующий период, когда в тяжелых условиях монгольского ига Русь переживала трагический упадок культуры.
Как изменила все эти представления находка берестяных грамот: И какое она принесла обилие фактов!
Первый существенный результат открытия берестяных грамот — установление замечательного для истории русской культуры явления: написанное слово в новгородском средневековом обществе вовсе не было диковиной. Оно было привычным средством общения между людьми, распространенным способом беседовать на расстоянии, хорошо осознанной возможностью закреплять в записях то, что может не удержаться в памяти. Переписка служила новгородцам, занятым не в какой-то узкой, специфической сфере человеческой деятельности. Она не была профессиональным признаком. Она стала повседневным явлением.
Прорись грамоты № 377. Письмо от Микиты к Ульянице с предложением вступить брак. Середина XIII века.
Разумеется, разным семьям, населявшим раскопанный участок Великой улицы, была свойственна разная степень грамотности. Рядом с грамотными людьми жили неграмотные, и рядом с образованными семьями жили необразованные. Это естественно. Но для нас важнее то, что рядом с неграмотными людьми и семьями жило много грамотных людей и семей, для которых чтение и письмо стали таким же естественным делом, как еда, сон, работа. Уже само количество найденных грамот поразительно и способно навсегда зачеркнуть миф об исключительной редкости грамотных людей в древней Руси. Однако еще более внушителен состав авторов и адресатов берестяных писем. Кем и кому они написаны?
Феодалы пишут своим управляющим, ключникам. Ключники пишут своим господам. Крестьяне пишут своим сеньорам, а сеньоры своим крестьянам. Одни бояре, пишут другим. Ростовщики переписывают своих должников и исчисляют их долги. Ремесленники переписываются с заказчиками. Мужья обращаются к женам, жены — к мужьям. Родители пишут детям, дети — родителям.
Бот грамота № 377, написанная в середине XIII века и найденная в 1960 году: «От Микити к Улиааниц. Пойди за мьне. Яз тьбе хоцю, а ты мене. А на то послух Игнат Моисиев…». Это обрывок самого древнего дошедшего до нас брачного контракта. Микита просит Ульяницу выйти за него замуж, называя здесь же Игната Моисеевича свидетелем со стороны жениха.
Любопытно, что за все время раскопок найдено всего лишь два или три богослужебных текста — каких-нибудь полпроцента от всей прочитанной теперь бересты. Зато обычны такие письма.
Грамота № 242, документ XV века: «Цолобитье от Кощея и от половников. У кого коне, а те худе, а у (и)ных нет. Как, осподине, жалуешь хрестыян? А рожь, осподине, велишь мне молотите, как укажешь». Авторы письма — ключник и крестьяне-арендаторы, обрабатывавшие землю господина за половину урожая. Они жалуются на бедность и отсутствие коней: «У кого кони есть, те плохи, а у других вовсе нет».
Или грамота № 288, написанная в XIV веке: «…хаму 3 локти… золотнике зелоного шолку, другий церленого, третий зелоного желтого, золоти (их) белил на белку, мыла на белку бургалского, а на другую белку…». Хотя в письме нет ни начала, ни конца, можно с уверенностью говорить, что это запись и расчет заказа какого-то вышивальщика или вышивальщицы. Полотно, по-древнерусски «хам», нужно было выбелить бургальским (то есть городским) мылом и «белилами» и расшить разноцветными шелками — зеленым, красным и желто-зеленым.
В грамоте № 21, написанной в начале XV века, заказчик обращается к мастерице: «…озцинку выткала, и ты ко мне пришли, а не угодице с кым прислать, и ты у себе избели». Автор грамоты получил уведомление, что холсты, «озцинка», для него вытканы, и просит прислать их ему. А если прислать не с кем, то пусть ткачиха эти холсты выбелит сама и ждет дальнейших распоряжений.
Грамота № 125, брошенная в землю в конце XIV века, не указывает на занятия автора письма и его адресата, но, думается, что они люди небогатые: «Поклон от Марине к с(ы)ну к моему Григорью. Купи ми зендянцу добру. А куны яз дала Давыду Прибыше. И ты, чадо, издей при собе да привези семо». «Зендянцей» называлась хлопчатобумажная ткань бухарского происхождения по имени местности Зендене, где ее стали изготовлять раньше, чем в других селениях. «Куны» — древнерусское название денег. Если бы Григорий был богатым человеком, вряд ли его матери пришлось бы посылать деньги на покупку с оказией. У Григория денег могло не оказаться, и мать посылает ему нужную сумму из своих сбережений.