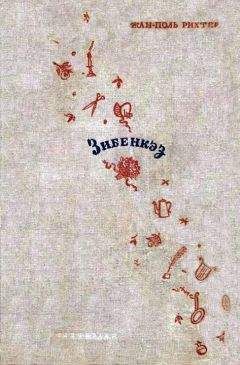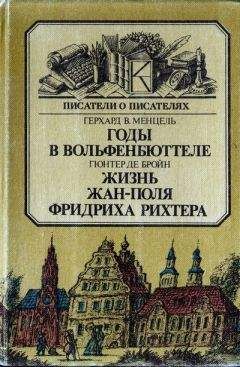Григорий Свирский - На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986
Перед читателем проходит затем череда стариков — отставных чиновников фюрера, размышлениями своими точь-в-точь напоминающих советских отставников, которые благоговеют перед кровавым всесилием. Среди них Ширах — создатель гитлерюгенда. Шпеер — министр вооружения, министр тотальной войны, сменивший в 42-м году погибшего Тодта; тот самый Шпеер, который, кстати сказать, начал убивать людей при помощи «Фау-2».
Шпеер наиболее умен и циничен. И откровенен: «Человеческие жизни и судьбы, — говорит он, — конечно, никого не интересовали. Делалось дело…»
Ширах и сейчас не прочь подтрунить на неарийской расой, он вспоминает с удовольствием, как в тюрьме Шпандау ставил в тупик советских надзирателей и часовых. «А знаешь, говорю, Иван, что ваш Пушкин по происхождению не русский, а эфиоп?» «Как так? — возмущается Иван. — Врешь, никакой он не эфиоп, а русский он, русский!..»
Шираху приятно поиздеваться над русским человеком: он чутко, ноздрями старого нациста, уловил дух шовинизма, идущий со стороны современной России.
А Ялмар Шахт, бывший президент Рейсхбанка, до сих пор не может успокоиться, пространно говорит о влиянии немцев на Россию. «Даже столица — Петерсбург». А литература? Хемницер, Фон-Визин…
А уж простые генералы или бюргеры, те откровенно жалеют о прошлом. Хвалят Гитлера. «Интересы народа он всегда ставил выше морали, выше закона», — вспоминает некий генерал.
Гитлер казнил сто девятнадцать своих генералов и около восьмидесяти тысяч солдат. «У него была великая цель, — оправдывает его генерал, — а великая цель требует порой большой крови».
Хозяин пивного бара еще откровеннее: «После Гитлера нами правят сплошные ублюдки… Тот был личностью…»
Автор приводит также цитату из книги немецкого поэта Ганса Магнуса Энценсбергера: «Из нашего национального самосознания вырастают порой диковинные цветы».
Умевшие читать между строк сановные «образованцы» из молодых, да ранних, главным образом комсомольцы из ЦК ВЛКСМ, сорока лет отроду, подняли крик. Центральные газеты опубликовали сразу несколько статей-воплей, из которых было совершенно очевидно, что последний выстрел «Нового мира» был уникальным. Попал сталинистам точно между глаз.
Секретаря ЦК партии Демичева и секретаря Союза писателей СССР Константина Федина не пришлось долго уговаривать. Александр Твардовский давно жил с петлей на шее. Оставалось только выбить из-под его ног табуретку.
«Новый мир» — последний легальный бастион прогрессивной интеллигенции — прекратил свое существование.
5. Магнитофонная революция…
Казалось, вытоптано все.
И тогда, в полумогильной тишине, стали слышней стихи-песни. Шорох магнитофонных лент. Они давным-давно вырвались из-под контроля Дома Романовых, стихи-песни. И теперь выступили вперед, на смену придушенному.
Глубинная Россия, за редким исключением, не держала в руках книг Александра Солженицына, как и других авторов «Нового мира» и самиздата. Только «Один день Ивана Денисовича», изданный миллионным тиражом «Роман-газеты», достиг полок районных библиотек. Солженицын-прозаик, по сути, так и остался вне досягаемости: «глубинка» крамольных, с ограниченным тиражом, журналов и толстых рукописей самиздата не читает: откуда им там взяться?
Оболгать Солженицына поэтому нетрудно. Но попробуй оболгать песню, записанную на твоем магнитофоне. Тем более песню, оторвавшуюся от автора, ставшую народной.
Стихи-песни Булата Окуджавы, Александра Галича, Владимира Высоцкого и других стали знаменем вольномыслия. Они спасли поэзию сопротивления от разгрома: сами были подлинной поэзией, талантливой литературой, со своей давней историей, со своими врагами и поклонниками.
Юбилиада, не ведая того, усилила влияние песенной поэзии во сто крат.
Романовы поняли это не сразу. К счастью, не сразу дошло до них, как много значили для духовной жизни простого человека эти плохо записанные ленты.
Улица не повторяла текстов казенных песен, речей, плакатов и призывов ЦК КПСС. Ее давно захватила песенная магнитофонная революция.
… Она началась исподволь и оказалась неуязвимой и всепроникающей. На плечах чудом выживших лагерников в жизнь вошел не только лагерный сленг, но и стихи, и песни. Дошла до нас и безыскусственная, настоянная на фольклоре песня «Воркута — Ленинград». Выжила и песня-проклятие ГУЛАГу поэта-лагерника, погибшего в лагерях, «Ванинский порт». Я приведу строки такими, какими они запомнились зэкам-колымчанам, с которыми меня свела судьба.
Я помню тот Ванинский порт
И рев парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.
Над морем стелился туман,
Вскипала пучина морская.
Вставал впереди Магадан,
Столица Колымского края.
У борта стояли зэка,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались конвою проклятья.
.
Будь проклята ты, Колыма!
Откуда возврата уж нету.
Сойдешь поневоле с ума:
Придумали, гады, планету!..
Таких песен было много. Они стали запевом, дали «настрой» и молодой поэзии, и непуганым юным исполнителям, вооруженным гитарой, — они настраивались на тональность лагерной правды, как на камертон… Отнюдь не всегда поэзия была им близка тематически, но она была неизменно правдивой… Лагерный поток вымывал ложь казенного благополучия. Песня переставала быть сентиментальным вздохом или пропагандой. Срасталась с высокой поэзией, — гитаристы начали напевать стихотворение Ярослава Смелякова — изломанного, измученного, вернувшегося из лагерей еще при Сталине и никогда не писавшего лагерных песен.
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращусь я к друзьям,
не сочтите, что это в бреду:
Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом.
В изголовье поставьте ночную звезду…
Это был стихийный полуосознанный протест юности против пустоты радиопесен, против бездуховного существования. Можно было б часами черпать из моря самодеятельных туристских, походных, сатирических песен, которыми молодежь отгораживалась от казенщины, задрапированной под поэзию.
У песни еще не было лидеров. Они должны были появиться.
Первым начал выделяться «лица необщим выраженьем» Булат Окуджава.
Первые песни его прозвучали, для нас, в 59 — 60-х годах. Они в ту пору звучали на дружеских вечеринках.
Первое публичное выступление Булата Окуджавы было на грани провала. Завсегдатаи Московского дома кино, патентованные красотки и зубные врачи, среди которых лишь изредка мелькало лицо киноактера или оператора, встретили песни Окуджавы холодно. Председательствующий Вас. Ардаматский подошел после выступления Окуджавы к авансцене и сказал зрителям с усмешкой, разведя руками:
— Я за это не отвечаю.
Мне рассказывал Булат об этом в 67-м году, спустя много лет после первого концерта. При одном воспоминании об ардаматских у Булата каменело лицо.
Прошло всего два-три года после первого выступления Булата Окуджавы, и его песни полонили Россию. Это был беспрецедентный прорыв сквозь цензурный бетон. Именно тогда, после хрущевского разгрома искусства в 63–64 годах, когда проза залегла, как залегают солдаты перед укреплениями, песни хлынули, как паводок, — поверх укреплений. Сперва песни Окуджавы, затем Галича. Позднее — Высоцкого и других.
«Есть магнитофон системы «Яуза»!
Вот и все — и этого достаточно!»
— писал Александр Галич.
Песни Окуджавы и Галича зазвучали в дощатых бараках общежитий, на строительствах и лесоповалах, где никогда не раскрывали сборники стихов. В местах, куда книга и не доходит.
В чем секрет популярности песен Булата Окуджавы, похоронившей под собой не только радиопесни, но и всенародно известные наивно-поэтичные песни Исаковского — «Зашумели, заиграли провода, мы такого не видали никогда…» или «И кто его знает, на что намекает…»
В чем секрет этого?
Девочка плачет — шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит…
Поэтика стихотворения о голубом шарике фантастически проста. Нет даже рифмы. Строфы-двустишья. Мысль элементарна: люди рождаются, живут, умирают.
Стихотворение держит интонационный повтор: «шарик улетел», «шарик вернулся»… Монотонность стихотворения — это сама монотонность, само однообразие жизни.
И лишь в конце — интонационный перебой. Есть еще что-то, есть и другая музыка в жизни. И — лирическая глубина: «Шарик вернулся, а он голубой».
Почему голубой? Однозначно расшифровать невозможно. Есть подтекст, заставляющий думать. Есть тайна.