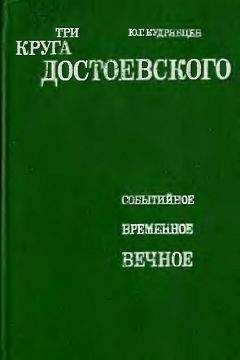Ян Пробштейн - Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии
10. Н.К.: Кьеркегор писал: «Никто не возвращается из царства мертвых… никто не является на свет без слез… никто не спрашивает, когда хочет явиться… никто не справляется, когда желаешь уйти…» Мне кажется, что у философа дана квинтэссенция вашей книги «Реквием». Предпочитаете ли вы экзистенциальность и абсолютную свободу выбора более, чем, скажем, жизнеутверждающее начало Ивана Карамазова?
Я.П.: Мое приближение к экзистенциализму началось не с Кьеркегора и даже не с популярных в дни моей юности и молодости Сартра и Камю, а с Тютчева.
В стихотворении Федора Ивановича Тютчева «Два голоса» — эллинское отношение к бытию. Как писал Блок, у Тютчева «эллинское до-Христово чувства Рока, трагическое». Первый урок экзистенциальной философии я получил от Тютчева. Вообще, Тютчев оказал на меня очень большое влияние и как поэт, и как философ. Уже потом я обратился к Сартру и Камю, после них — к Кьеркегору, а в последние годы к немецкому философу Хайдеггеру. У нас нет абсолютной свободы, наше бытие от рождения до смерти определено в значительной мере факторами, от нас не зависящими: временем и местом рождения, средой, воспитанием, образованием, нашей бренностью, наконец. На житейском уровне наша свобода ограничена ответственностью перед другими — семьей, детьми, близкими. Однако в этих рамках у человека безусловно есть выбор поступать так, а не иначе. Наше мужество и достоинство измеряются тем, насколько прилежно мы боремся. Я не считаю, что у человека есть абсолютная свобода выбора, но у него есть свобода выйти из экзистенции к событию, как сказал Хайдеггер, то есть из существования к осмыслению бытия, что требует, конечно, немалого мужества, а к тому же неизбежно приводит к столкновению с обществом, человеческими предрассудками и суевериями. Еще большего мужества требует попытка заглянуть за пределы сущего, в Ничто, как это делал Тютчев:
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Что же до карамазовского «жизнь полюбить больше, чем смысл ее», такое мироощущение, как это ни соблазнительно, мне не присуще.
11. Н.К.: Контрапункт вашего творчества — дихотомия, два мира, две бездны, два пространства…
Я.П.: Две бездны для меня — это отчаяние и самовлюбленность, безверие и фанатизм, жизнь и смерть. Две бездны, если вновь обратиться к Тютчеву, это когда
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.
Кроме того, существует и чисто языковое раздвоение: я пишу по-русски здесь, а читатель — за океаном, в России, ведь ни для кого не секрет, что интересы большей части русской эмигрантской общины лежат, в основном, в иной сфере, нежели литература, поэзия. Да и язык, который слышишь ежедневно, иной — помните, у Бродского: «Птица уже не влетает в форточку»?
12. Н.К.: В одной из ваших поэм есть такие строки:
Покидая общину и общество,
край, где ты вырос,
Уходя, как изгой, ты почувствуешь бремя свободы…
Что в вашей жизни способствовало формированию такого взгляда? Что для вас свобода — бремя или другая мера ответственности?
Я.П.: Это строки из довольно ранней моей поэмы. Взгляды мои с тех пор несколько изменились, однако я по-прежнему считаю, что свобода — это всегда испытание, часто — бремя, помните, в «Легенде о Великом инквизиторе» тот говорит Христу, что люди готовы отдать свободу за хлеб, за то, что кто-то возьмет на себя ответственность за их поступки, за авторитет? В бывшем СССР нужно было бороться даже за «тайную свободу», если воспользоваться выражением Пушкина, в то время как большинство обличало инакомыслящих. Здесь же многие с радостью отдают свою свободу за хлеб или потому, что привыкли поклоняться авторитетам.
13. Н.К.: Вы часто обращаетесь к теме одиночества, изгойства. Повлияла ли эмиграция на формирование таких взглядов или вы всегда были «внутренним эмигрантом»?
Я.П.: В нашем бывшем отечестве, СССР, любой думающий честный человек как бы неизбежно становился внутренним эмигрантом. Собственное творчество, знакомство с мировой литературой в то время, когда переводы произведений Милоша или Борхеса печатать было запрещено, лишь ускорили этот процесс. Творчество вообще диктует свои правила, изменяет жизнь, требует особого психического состояния, духовной концентрации, неизбежно приводит к одиночеству:
Творишь не только ты, но и тебя
твое творенье исподволь творит…
14. Н.К.: Что Вы думаете о проблеме «поэт и свобода» в эмиграции?
Я.П.: С одной стороны, в эмиграции поэт свободен от злободневности, от событий, часто незначительных, но в повседневной жизни играющих немалую роль и часто отвлекающих от сути, я имею ввиду такие, как различные приемы, тусовки или, скажем, всевозможные перемещения в правительстве, разумеется, я не отношу к таким событиям штурм Белого Дома в 1993 г. или войну в Чечне. С другой стороны, в эмиграции появляется другая злободневность, приходится жить по законам того общества, в котором оказался: выживать, оплачивать счета, заполнять бездну бумаг, заниматься бухгалтерией. Америка придает всему этому очень большое значение. Но самое главное — в эмиграции поэт, писатель предоставлен самому себе, аудитория, интересующаяся поэзией, сравнительно невелика, поэт становится равен самому себе и своей поэзии, лишен какой бы то ни было общественной значимости, о чем писал Бродский в эссе «Состояние, которое мы называем „изгнанием“». Но несмотря на все это, невозможно отказаться от долга и от бремени, хотя занятие это с точки зрения практических людей, которых в Америке большинство, дело бесполезное:
Слово молвите или замолвите
за стоящих у врат —
ни чужих грехов не замолите,
ни тех, что вам предстоят.
И привратник поймет превратно,
если что-нибудь в этом поймет…
Улетают слова безвозвратно,
словно тают за годом год.
Вряд ли ангелы бессловесные
благодатью меня осенят…
Только дело мое бесполезное
кто здесь сделает за меня?
15. Н.К.: Ваше стихотворение «Подпольный человек», мне кажется, не только дань Достоевскому, но и, увы, печальное определение души человеческой, скованной и заклейменной подпольным сознанием?
Я.П: Верно. Название — лишь отправная точка, символ или, как бы сказали представители семиотической школы, знак, указывающий на связь с определенным культурно-историческом контекстом. Подполье — очень широкое понятие, но для меня главное, что люди скрывают свое подполье в милой светской беседе, в умных рассуждениях или в научных трудах и лекциях и — все иссушают, сеют вокруг себя неверие, безлюбье, цинизм, смерть:
Подпольный человек
Что лежишь, лежебока, на лежбище лжи?
Субпродуктом субстанции впрямь ли доволен?
Знал бы ты, что в недремлющих недрах дрожит
вещий клад вещества, но пока ты подполен,
ни любви любомудрия, ни лепетанья
лепестков — лепоты нерасцветших цветов,
ни миров, что рождаются втуне и в тайне,
не видать и не ведать во веки веков.
В подземельях ума — в сих глухих погребах
что увидишь, отыщешь ты, пасынок правды?
Лишь змеится на пагубных синих губах
ложь-всезнайка, которой все, кажется, рады.
Так и будешь уже до конца стервенеть,
голодая, глодать свое бедное сердце,
чтоб принять с торжеством правоты свою смерть
в подтвержденье теории тлена и смерти.
Очень трудно объяснять свои стихи. Йейтс справедливо полагал, что, объясняя свои стихи, поэт как бы заранее предопределяет интерпретацию читателя, тем самым сужая ее. Приняв во внимание вышесказанное, могу условно и схематично добавить, что в этом стихотворении говорится о подполье бездействия, пустого, иссушающего душу умствования, цинизма, о подполье безлюбья, наконец. Знание без любви — ложь, ум бессилен, талант бесплоден, а жизнь подобна смерти. Но кроме этого, в стихотворении «Подпольный человек» много других ассоциаций, образов и мыслей.
16. Н.К.: В вашем творчестве, на мой взгляд, больше философской, чем любовной лирики. А как вы понимаете слова Ап. Павла из 1 послания «К Коринфянам»: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий»? Какое место в своем творчестве ты отводишь любви?
Я.П.: Полагаю, что апостол Павел говорил о любви к Богу, к ближнему, к людям, не только и не столько о любви к женщине. Более того, первые христиане серьезно обсуждали вопрос, следует ли истинно верующему вступать в брак. В том же послании Павел высказывает, как он сам говорит, «позволение, а не повеление» вступать в брак, «чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» и далее добавляет: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я». И в «Подпольном человеке», и в «Реквиеме», и в «Жемчужине» и даже в «Элегиях» я говорю о любви в широком значении этого слова. Как я уже сказал, любовь и вера в то, что ушедшие остаются со мной, пока их хранит моя память, позволили мне выжить в буквальном смысле этого слова. Что же до любви в более узком смысле этого слова, отвечу стихами: