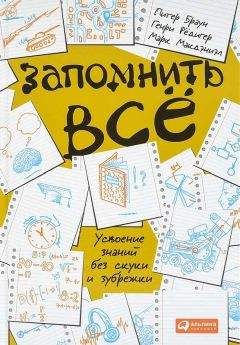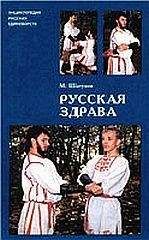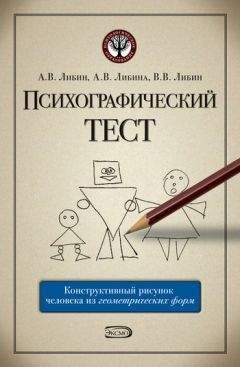Нина Меднис - Венеция в русской литературе
Упоминание о Риме в этом контексте несет смысл больший, нежели просто указание на параллельность отдельно взятых деталей. Рим в период существования великой империи был таким же средоточием ценностей, стекавшихся туда из всех подвластных ему территорий, как Венеция Средних веков и Возрождения. Только масштабы и характер этого центростремительного движения в последнем случае были несколько иными, хотя завоевания во время поддержанных Венецией крестовых походов сыграли и здесь немалую роль. Проводя в этом отношении прямую аналогию с Римом, В. Розанов пишет: «…„Марк“ есть патрон Венеции, а что такое этот „патрон“ и чему он покровительствует, показывают везде разбросанные фигурки львов: Венеция — львиный город, находящийся под защитой какого-то святого, который обеспечивает ему успешную ловитву адриатических ланей. Но этому „патрону“ надо воздвигнуть храм, как Рим создавал своему Марку. Пираты Адриатики, так напоминающие наших запорожцев, потащили сюда все, притащили даже две колонны из Соломонова храма, когда-то перевезенные в Константинополь: и все прекрасное, ценное, редкое — казалось бы, на первый взгляд безвкусно — потащили своему „Льву“ и соединили в подножие его славы. Но опять — история помогла. Из безвкусного, эклектичного, наборного, непреднамеренного получилась единственная по красоте христианская церковь!» (224). Итак, В. Розанов видит культурную миссию Венеции, отчасти подхваченную ею упавшего Рима, в объединении разнородного, в том числе и в смысле образования целостности из вещественных цитат разных топосов и культур.
Однако то, что было отмечено авторами путевых очерков в области семиотики венецианского топоса, практически не нашло отражения в поэзии и художественной прозе начала ХХ века. В этот период художники слова создают обобщенный метафизический образ Венеции, восходящий порой до уровня целостного символа, предпосылки возникновения которого усматриваются уже в XIX веке в творчестве Ф. М. Достоевского. Лишь значительно позднее, в 80–90-х годах ХХ века, видимо, в связи с постсоветским «размыканием» пространства и стремлением к эстетическому переоткрытию Венеции, цельный образ города начинает дробиться на отдельные детали, которые особенно привлекают внимание поэтов и писателей. Здесь нет стремления к разрушению метафизического ореола Венеции (он трансформируется, но остается достаточно устойчивым), а только желание всмотреться в жизнь и лицо города. Несомненно, значительную роль в подталкивании художников к вычленению образов поликультурного венецианского мира сыграла и возможность заново прочесть переизданные в последние десятилетия путевые очерки русских писателей начала столетия. Так литература конца века возвращает читателю то, о чем писали очеркисты его начала:
На колокольне
Колотят мавры,
Везде привольно
Стоят кентавры,
Где Византия
Сроднилась с Римом
В одном созданье
Неукротимом.
Мы по ней, златокудрой, проплыли
Мимо скалоподобных руин,
В мавританском построенных стиле,
Но с подсказкою Альп, Апеннин…
В том же направлении движется и проза 90-х годов. В одном из лучших произведений русской венецианы, романе Ю. Буйды «Ермо», к примеру, Венеция — это мир, «где не случайно встретились Восток и Запад, Европа и Византия, Рим и Греция, орфики и пифагорейцы, Василий Виссарион и Лоренцо Валла» (15). Безусловно, во всем этом видна попытка нового концептуального осмысления феномена Венеции, но какой будет эта новая или обновленная концепция, говорить пока рано.
Другая тенденция в отражении отношений Венеции с внешним миром не связана с временным фактором и предстает как сквозная для русской литературной венецианы. Речь идет о таком важном свойстве венецианского топоса, как резонантность. При этом сразу следует заметить, что данное свойство не является исключительно и исконно венецианским. Оно характерно для всех итальянских городских текстов — и римского, и флорентийского… Италия в целом, при всей ее притягательности, обладает способностью порождать сильные ностальгические переживания. Однако Венеции это присуще в превосходной степени. Абсолютная непохожесть морского города на весь окружающий мир, исключительность его атмосферы и облика невольно рождают у всякого, пишущего о нем, тягу к сопряжениям, более или менее глубоким, более или менее личностным. В предельном случае абсолютная самобытность Венеции на эстетическом уровне оборачивается выраженным в слове переживанием абсолютной отъединенности ее хронотопа от всего, что было вне ее и до нее. Именно так ощущают Венецию герои новеллы Г. Чулкова «Голос из могилы» (1921): «Мы приехали в Венецию поздно вечером. Когда черная гондола беззвучно отчалила от вокзала и гондольер, неспешно гребя веслом, направил ее вдоль безмолвного канала; когда мы почувствовали странную тишину венецианской ночи и услышали шуршащие шаги запоздавших прохожих, торопливо переходивших по горбатым мостам; когда мы вошли в отель, у порога которого при свете фонаря плескалась зеленая вода, и увидели нашу комнату с огромным распятием и мебелью, уцелевшею, по-видимому, от времен Гольдони, Тьеполо и Казановы; мы вдруг почувствовали, что вот сейчас безвозвратно канул в прошлое наш далекий пустынный мир, где мы любили друг друга так страстно и так верно»[37]. Несколько иначе, но с тем же утверждением временной и пространственной дистанцированности это выражено в «Рассказе неизвестного человека» (1892) А. П. Чехова: «Я смотрю вниз на давно знакомые гондолы, которые плывут с женственною грацией, плавно и величаво, как будто живут и чувствуют всю роскошь этой оригинальной, обаятельной культуры. Пахнет морем. Где-то играют на струнах и поют в два голоса. Как хорошо! Как не похоже на ту петербургскую ночь, когда шел мокрый снег и так грубо бил по лицу»[38].
Казалось бы, подобные случаи должны свидетельствовать не столько о пространственных перекличках, сколько о разрывах, отсекающих Венецию от вневенецианского мира. Однако в действительности мы и здесь имеем дело со своего рода минус-резонантностью, поскольку во всех подобных проявлениях рядом с Венецией обязательно всплывает в качестве второго члена сравнения некая удаленная точка, соотносимая с водным городом по принципу неравенства, непохожести.
Прием пространственной резонантности в изображении Венеции пришел в русскую литературу с переводами элегии А. Шенье «Pres des bords ou Venise est reine de la mer…», сделанными во второй половине 20-х годов В. Туманским, Пушкиным и Козловым. Подробно об этих переводах мы будем говорить далее, здесь же отметим, что пространственная перекличка возникает в этих стихотворениях как производное от параллелизма героев, принадлежащих разным локусам. Позднее в пародийной стилистике, но внешне четко обозначенным предстает данный феномен у И. Мятлева в «Сенсациях и замечаниях госпожи Курдюковой…» (1844):
Но Сан-Марк и сам собой
Бесподобен — золотой,
Весь почти из мозаика,
Вкруг чудесного портика
Много греческих икон —
Это знак, что наш закон
Всюду царствовал, бывало.
Но меня что восхищало —
Это сюр ле метр отель
Эн табло времан тель кель,
Как Успенского собора!
Не могла свести я взора
Умиленного с него,
И для сердца моего
Так повеяло отчизной,
Что дохнула новой жизней,
Из чужбины я душой
Вдруг перенеслась домой…
Эти отзвуки иных пространств материализуются в разных проявлениях венецианского мира. К примеру, в стихотворении К. Павловой «Гондола»(1858) череду пространственных ассоциаций вызывает ритмичный плеск воды под веслом гондольера, водная гладь и дворцы Венеции:
Встал месяц, — скольжу я в гондоле,
Качаясь по светлой бразде;
Все тихо, плыву я на воле;
Венеция спит на воде.
И сказочно блещет красою,
Сквозь легкий тумана покров,
Над темнотекучей волною
Узорчатый мрамор дворцов.
И с лаской весло гондольера,
Касаяся мерно струи,
Глухим повтореньем размера
Баюкает думы мои…
…Другие мелькнули картины,
Суровее, мыслям милей:
Убогие избы, овины
И гладь бесконечных полей.
Повсюду простор величавый,
Звон всенощной в каждом селе;
И город огромный, стоглавый
Широко сверкнул в полумгле.
И с грани земли православной
Громада столицы другой
Кичливо блестит над державной
В гранит заключенной рекой.
Над ней небо хладно и серо…
И, мерно колебля струи,
Удары весла гондольера
Баюкают думы мои…
Почти те же исходные знаки ассоциативных рядов и с тем же кольцевым кружением образов обнаруживает стихотворение А. А. Голенищева-Кутузова (1894):