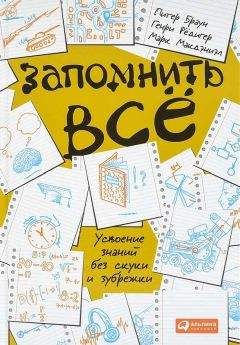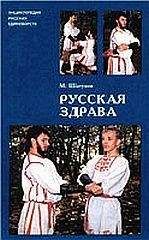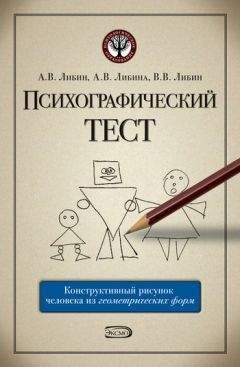Нина Меднис - Венеция в русской литературе
Итак, в представлении писателей начала ХХ века Венеция уже не равна Serenissima, но и не сводима к своим городским пределам. Литературная Венеция той поры так же, как и в начале XIX века, но не внешне, а органически, являет собой город вкупе с его окрестностями. В этом смысле перекличкой через столетие звучит стихотворение В. Ходасевича «Брента» (1920), что подчеркивается и предпосланным ему эпиграфом, взятым из романа «Евгений Онегин», правда, с несколько измененной по сравнению с пушкинской пунктуацией:
Адриатические волны!
О, Брента!..[30]
Отношения венецианского пространства с общеитальянским топосом в произведениях ХХ века осложняются. С одной стороны, продолжает развиваться тенденция представления Венеции в итальянском географическом и культурно-психологическом контексте, ярким примером чего являются «Образы Италии» П. Муратова, с другой стороны, очень высокий интерес к собственно Венеции, острое ощущение ее своеобразия порождают тенденцию ее автономизации как города, которому отведена особая роль в мировом или, как минимум, европейском миропорядке. Эти характерные именно для писателей ХХ века попытки обозначить метафизическое место Венции определяли одновременно множественность и специфичность ее связей с внешним миром в системе литературной географии.
Включение в обширный географический контекст с удаленными или неопределенными границами требовало ясности в отношениях с ближним пространством, и в различных связанных с Венецией текстах ХХ века в разной форме начинают звучать утверждения об отличии Венеции от исторически и политически поглотившего ее итальянского мира. Порой авторы уступают право озвучивания данной мысли своим персонажам, как В. Брюсов в путевых очерках об Италии (1902): «Вы итальянец? — спросил я простого старика. — Нет, синьор, — гордо возразил он. — Я венецианец»[31], — порой говорят об этом сами, как А. Блок, замечающий в «Молниях искусства», что Венеция «еще не Италия, в сущности, а относится к Италии как Петербург к России, — то есть, кажется, никак не относится»[32]. Это ощущение отдельности Венеции, видимо, было у А. Блока очень сильным, ибо он в том же 1909 году в письме к В. Брюсову от 2 октября снова повторяет, варьируя, то, что сказал в «Молниях искусства»: «…Венеция поместилась как-то на особом месте, даже почти вне Италии; ее можно любить примерно как Петербург; как Петербург к России, так Венеция относится к Италии»[33].
Представление о Венеции как значимой самой по себе и соотносимой с мировым контекстом, минуя итальянский, сохраняется в литературе вплоть до наших дней, прямо выражаясь в поэзии и прозе И. Бродского, имплицитно присутствуя в романе Ю. Буйды «Ермо» и в других связанных с Венецией произведениях. Так, Д. Бавильский в эпистоле «Венеция. Письмо» (1998) пишет: «Вне пространства: нельзя сказать, что ты был в Италии. Нет же, нет: ты был в Венеции и только. Италия иное. Венеция по-прежнему суверенная республика, охраняемая крылатым львом»[34].
Рядом с подобными утверждениями, иногда доказательно подкрепляя их, иногда без обобщений, ограничиваясь чередой указаний на факты, писатели лейтмотивом проводят мысль о культурной универсальности Венеции, вместившей в себя Запад и Восток, языческий, мусульманский и христианский миры. Будучи знаково представленными во внутреннем венецианском пространстве, они делают Венецию культурным аккумулятором всего Средиземноморья и, шире, практически всей Европы, связывая ее с обширным и разноликим топосом. В русской литературе трудно найти художника, который не отметил бы культурный эклектизм и в то же время внутреннюю цельность вещного наполнения венецианского пространства. Особая географическая сетка, определяющая пространственные координаты Венеции как центра мощнейшей в прошлом морской торговой республики; ее территориальное положение на периферии Византийской империи, где влияние Константинополя сказывалось, но было крайне ослабленным; исторические связи с северными и северо-западными государствами Европы, которые порой использовали огромный по тем временам венецианский флот как мост к восточному Средиземноморью, — все это делало Венецию перекрестком, где встречались и расходились самые различные культуры и нации. Поэтому в средиземноморском топосе Средних веков и эпохи Возрождения Венеция стала той пространственной точкой, которая объединяла разные локусы, неся при этом в самой себе признаки амбивалентного центра-периферии, что и наложило неповторимый отпечаток на облик города.
Особенности культурно-географических координат водного города находят образное воплощение в многочисленных составных русской и мировой литературной венецианы. При этом тексты, подчиненные своим собственным семиотическим законам, приводят в действие механизм, на который в свое время точно указал Ю. М. Лотман, заметив, что всякое описание есть деформация. «Не освещая всех аспектов такой деформации, — пишет он алее, — отметим, что она неизбежно влечет за собой отрицание периферии, перевод ее в ранг несуществования»[35]. Таким образом, как бы ни складывались культурные и пространственные взаимоотношения в реальности, в литературном венецианском тексте Венеция неизбежно и неизменно обретает статус центра, что не искажает, но несколько смещает и усиливает первичные законы и тенденции ее бытования в пространстве. В редких случаях, как в стихотворении М. Кузмина «Ах, не плыть по голубому морю…» (1912), Венеция оказывается одним из центров бицентричного мира наряду с Константинополем. Но и здесь, в отличие от предметно обозначенной Венеции, Константинополь скрыто, а, следовательно, аксиологически ослабленно, представлен лишь через бухту Золотой Рог.
Тенденции изображения Венеции как притягивающего гравитационного центра ясно проявились уже в первой русской книге, специально посвященной водному городу («Венеция», 1905). Автор ее, П. Перцов, обращает внимание на знаковое со-присутствие в Венеции различных средиземноморских территорий, проявившееся не только в смешении стилей, но и в вещном представительстве в Венеции разных стран. Этот вещный цитатный конгломерат, по мнению П. Перцова, особенно характерен для духовно-культурного центра Венеции — собора св. Марка. «Я не знаю, существует ли еще в мире собор, — пишет П. Перцов, — на который можно было бы поставить четырех бронзовых коней без риска не только испортить художественное впечатление, но и профанировать здание. Не таков собор св. Марка. Фантастическое смешение всех настроений и вкусов, всех стилей и эпох… Это здание своего рода unicum, неповторимая индивидуальность в мире церквей. Его стиль считается византийским, но, мне кажется, это верно только до известной степени: из массы влияний, создавших собор, византийское было преобладающим. Ему принадлежит общий очерк здания, купола, мозаики. Но готические башенки главного фасада, готические стрелы, сплетенные из статуй, античный лес разноцветных колонн, восточная пестрота и позолота, наконец, широкая терраса вокруг куполов — какой стиль образует все это вместе взятое, если не стиль венецианского св. Марка, у которого нет ни предков, ни подражаний» (8–9). И несколько ниже, говоря о пристрастии венецианцев к мозаике, он замечает: «Создание международного, западно-восточного творчества, она, как нельзя лучше, отвечала международному складу Венеции — этого перепутья между Европой и Азией» (9). Те же особенности, по мнению П. Перцова, нашли отражение в архитектурном облике Дворца дожей и многих венецианских палаццо.
Однако П. Перцов был первым в русской литературной венециане, кто более или менее систематизировал и, главное, концептуально осмыслил факты, связанные с венецианским поликультурным стяжением, обозначив особенности пространственных координат Венеции, но он не был первым из тех, кто указал на эти факты. Тремя годами ранее В. Розанов в газете «Новое время» от 11 июля 1902 года опубликовал свой путевой очерк о Венеции. Он так же, как и П. Перцов, обращает внимание на культурную и географическую собирательность интерьера собора св. Марка. «Все тут неразумно, нерассчитано, — пишет В. Розанов. — Колонны, — как тащили из Константинополя, из Иерусалима, из языческих храмов Италии, — зеленые, красные, серые, желтые, пятнистые, с скульптурами и без скульптур, так и расставляли внизу почти без расстояния между ними, почти рядом: и они подпирают собор как вертикально поставленные и укрепленные бревна, скорее кучами, чем в каком-нибудь порядке. По понятному чувству я особенно рассматривал колонны из Соломонова храма, и у их подножия сохранились следы аллегорических животных, того же типа и фигур, как у подножия светильника из Соломонова храма, детально переданного в арке Тита в Риме»[36].