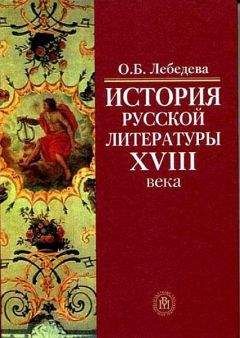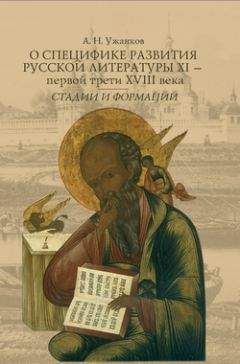Ариадна Эфрон - История жизни, история души. Том 3
- КАЗАКЕВИЧ! - крикнул он куда-то в сторону подвыпившей группы. - КАЗАКЕВИЧ! Подойдите на минутку!
Один из сидевших за столиком у входа нехотя обернулся, бросил: «Сейчас!» - и вновь облокотясь, подавшись к сближенным головам собеседников, продолжал разговор. Мы ждали. Наконец тот встал и медленно приблизился к нам валкой неспешной походкой - весь несколько нечёткий и небрежный, даже неряшливый - и осанкой, и одеждой, и выражением лица. Среднего роста, неопределённо-светлый, в сонных губах — тлеющая папироска, за очками не видно глаз — какой-то набросок человека! Отодвинув стул, он тяжело, обстоятельно уселся, неторопливо и скучно обвёл очками нас с Вильмонтом, и сердце стукнуло мне — не то, не тот!
- Познакомьтесь: Казакевич, - бодро протрубил Вильмонт, -это - А<риадна> С<ергеевна> Э<фрон> - дочь Марины Цветаевой, она...
И тут произошло поразительное. Всё, только что бывшее лицом Казакевича, мгновенно схлынуло, как румянец, сменяющийся бледностью; словно кто-то дёрнул и, сверху донизу, от лба до подбородка, сорвал вялую, лоснящуюся кожу сытно пообедавшего, мирно-равнодушного, чужого человека, и я увидела лицо его души.
Это было чудо, и как таковое не поддается описанию; даже теперь, столько лет спустя, оно не стало воспоминанием, а продолжает жить во мне неугасающей вспышкой, непреходящим мгновением, поборовшим само необоримое течение времени.
Прекрасное, детское по незащищенности и мужское по железной собранности, по стремлению защитить, братское, отцовское, материнское, самое несказанно-близкое человеческое «я» рванулось навстречу моему - недоверчивому, изуродованному, искажённому -подняло его, обняло, вобрало в себя, уберегло, вознесло — единой вспышкой золотых проницательных грустных глаз.
Вот с этой-то секунды и началась моя истинная реабилитация.
Оборачиваясь назад, вижу, что Казакевича знала и очень хорошо, и очень мало. Мало — потому, что встречались мы редко, разговаривали скупо, переписывались по-деловому. Хорошо — потому, что нам сразу, с первого того взгляда и до того последнего, не потребовалось ни близости во времени и пространстве, ни многоглаголенья устного или письменного для того, чтобы узнать друг друга. Я говорю не об узнавании — открытии человека, а о том, которое случается как бы после долгой разлуки, независимо от того, была ли эта самая разлука.
Мы встретились и расстались как однокашники, как однополчане, как люди одной мужской судьбы, несмотря на то, что кашу, которую каждый из нас хлебал или расхлёбывал, жизнь для нас варила в разных походных котлах, что моя армия состояла из сплошь разжалованных «чинов» и что мужской судьбой он был награждён по мужеству своему, а я - по недоразумению.
Отношения наши были искренни и просты, но простота эта никогда не оступалась в фамильярность. Мы не только вслух, но и внутри себя обращались друг к другу на «Вы», как младший к старшему, несмотря на то, что были однолетками; но я оказалась старше Казакевича на все те - с 1939 по 1955 - 16 лет, он меня - на всю войну, да и не только; дело в том, что по сути своей, по всему своему внутреннему складу Казакевич принадлежал к поколению отцов, т. е. как бы на целое поколение раньше себя и меня родился.
Он был из тех, кто в 1917 году встал плечом к плечу с живым Лениным и ленинское вбирал с живого голоса и действия, а не разбавленным и приспособленным к нагрянувшим с тех пор временам. Ленин, которого охранял и защищал Казакевич, не имел ничего общего с растяжимым железобетоном цитат, не походил на елейные или чугунные портреты поздних иконографов, на серые привокзальные скульптуры, при помощи которых формировались сознание и вкус наших сверстников. Казакевич, которого вёл за собой Ленин, шёл за ним не как слепец за поводырём, а как зрячий за зорким; он не был ни утратившим, ни ищущим, как люди нашего и последующего поколений, а нашедшим и в найденном утвердившимся.
Старые большевики, которых мне довелось встречать, увы, только в лагерях, доказали мне, что быть ленинцем — это талант, а не механическое подражание таланту; что за то, чтобы быть, а не слыть, — расплачиваются жизнью...
Вот и Казакевич был, а не слыл', и оказался он старше меня на всю свою ленинскую партийность.
За книгу Цветаевой он взялся без промедления. Узнав от меня, что рукописный архив моей матери ещё не разобран и что из него во время войны исчезли опубликованные при её жизни сборники, необходимые для составления предполагаемой книги, Казакевич познакомил меня с Тарасенковым, у которого были почти все цветаевские издания, а Тарасенкова — с замыслом нового сборника. К замыслу Анатолий Кузьмич отнёсся с воодушевлением, ко мне — с благожелательным и тактичным любопытством.
Вначале я было отшатнулась от этого знакомства; слишком памятны и нестерпимы были некоторые тарасенковские статьи, в частности о Пастернаке.
- Всё знаю, — сказал Казакевич, едва я открыла рот. - Поймите, то было время не только доносов «по велению сердца», но и ложных показаний из-под палки. Его ложные показания на литературу были вынужденными. Кстати, литература выдерживала и не такие удары. В итоге она - жива, а он, А<натолий> К<узьмич>, безнадёжно болен.
— Не может быть! Такой богатырь?
— У него уже был миллион инфарктов и он ждёт — каждый день и каждую минутку — последнего. Что до цветаевской книги, то тут Тарасен-ков полезнейший человек; с его мнением считаются — и никто так не знает фарватер, как он.
■
К тому же каждый грешник имеет право на свою луковку3.
В том, что Казакевич выбрал в «соратники»
I
Тарасенкова, была и ещё одна причина, отнюдь не утилитарного свойства: столь непримиримый к двуличию и двуязычию эпохи, Э<ммануил>
Э.Г. Кишке кич
Г<енрихович> глубоко жалел этого одарённого и внутренне расслоенного человека, медленно погибавшего от её излучения, подобно жертвам Хиросимы.
Не доведённая до конца работа над новым сборником Марины Цветаевой была последней радостью Тарасенкова.
Казакевич и Тарасенков «зондировали почву», «заручались поддержками», «укрепляли позиции» — один лично, другой, из-за болезни, по телефону. Но атаковать Котова, тогдашнего директора Гослитиздата, ездили вдвоём. Говорят, то был приличный человек и неплохой директор. После соответствующих размышлений и согласований он принял мужественное по тем — да и по этим - временам решение и включил сборник в план выпуска 1957 года.
И вот мы с Казакевичем у Тарасенкова, под сенью его изумительного собрания русской поэзии XX века, занимавшего все — с пола до потолка — полки его библиотеки. Руками ценителя и скряги Тарасенков достаёт — одну задругой - цветаевские книги, машинописные и типографские оттиски, переплетённые им в яркие ситцы, рассказывает, каким трудом, хитростью или чудом доставались они ему.
Когда среди них я опознала свою «Царь-Девицу», в 1941 г. выкраденную из материнского архива и проданную в Лавку писателей, откуда её извлёк Тарасенков, — на его лице отразилось такое страдание, что я молча поставила синенький томик с тиснёными своими инициалами обратно на полку, где она и стоит по сей день. - А лицо у Тарасенкова было очень русское, почти лубочное, голубоглазое и губош-лёпистое. Близость смерти делала его значительным...
Мы собрались, чтобы поговорить о составе будущей книги. Казакевич сидел у стола, круг света из-под зелёного абажура падал на его руки. Он взял лист бумаги и, прикусив папиросу, морщась от её дымка, вывел синим, безупречно отточенным тарасенковским карандашом:
МАРИНА ЦВЕТАЕВА Стихотворения, поэмы, драмы
Этот листок у меня и сейчас хранится.
Работать над первой посмертной книгой матери оказалось трудно и больно. Всё сиротство написанного ею, но ей больше не принадлежавшего, представало мне во весь рост в каждом стихотворении, которое мы с Тарасенковым «взвешивали» и «обсуждали». Любое, ею созданное, произведение, теперь принадлежало всем и никому, оказывалось во власти любых вкусов, пристрастий, отрицаний, конъюнктур, толкований. Каждый (в том числе и мы с Тарасенковым), действуя от имени и во имя пока ещё мифического «широкого читателя», был вправе нарушать и игнорировать волю автора, его замысел, менять местами краеугольное и второстепенное, клеить ярлыки, за уши притягивать, освещать, приглушать, обходить. Ибо именно в этом, как очень скоро для меня, неискушённой, выяснилось, и заключалась одна из основных задач составителей в лето господне 1955. Впрочем, мне ли, прожившей бок о бок с матерью почти всю её творческую жизнь, было поражаться несоответствию верблюда и игольного ушка — таланта и времени?
Нелепа была моя надежда устранить это несоответствие, вступая в учтивые и косноязычные споры с очевидностью, — с самим Тарасенковым, его многоопытностью, гурманским вкусом и цензорской хваткой.