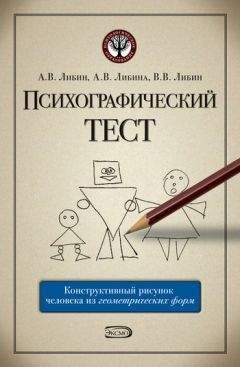Нина Меднис - Венеция в русской литературе
С любовью связана смерть Джорджоне в новелле П. Муратова «Морто да Фельтре», о которой мы говорили в предыдущей главе. При этом в структуре новеллы герой ее, Лоренцо Луццо, автор ряда аллегорических полотен, сам приобретает аллегорические черты и становится своего рода персонификацией смерти.
Мотивы любви и смерти тесно сплетены в венецианских стихотворениях А. Блока и О. Мандельштама[201]. У А. Блока они в значительной степени способствуют образованию трехсоставного цикла как целого. В первом стихотворении названные мотивы соседствуют в терцетах. Причем в первом терцете мотив смерти звучит с нарастанием от piano до crescendo, поднимаясь до высшей мистической точки — смерти Христа на Голгофе:
Идет от сумрачной обедни,
Нет в сердце крови…
Христос, уставший крест нести…
Во втором терцете слово любовь, как мы говорили, обращено скорее к Венеции, нежели к женщине, однако нельзя исключить того, что Венеция и женщина объединяются в данном случае в образе некой Венецианки, имя и персона которой здесь никакого значения не имеют.
Во втором и третьем стихотворениях блоковской «Венеции» мотивы любви и смерти разветвляются. Последний становится стержневым для второго стихотворения, а первый, оригинально выраженный, — для третьего, хотя и оно не лишено знакового присутствия смерти.
С двумя названными мотивами перекликается в цикле мотив ветра, символизирующий у А. Блока и жизнь, и смерть, и страсть, которая есть жизнь и смерть одновременно. Эта семантическая многоплановость мотива отчетливо видна в третьем стихотворении, где ветер поет о будущем, но «сквозь бархат черный», служащий и у А. Блока и у О. Мандельштама символом смерти.
Во втором стихотворении цикла, в отличие от третьего, семантика мотива ветра однопланова. Эпитет «холодный» и возникающая во втором стихе метафора «гондол безмолвные гроба» связывают с ветром неоспоримое значение смерти. Этот утвердившийся в начале стихотворения знак не снимается далее внутренне противоречивым, на первый взгляд, сочетанием «больной и юный», сочетанием, во времени развернутом вперед, но в небытие. В этом смысле первая строфа явно перекликается с конечным двустишием стихотворения, где речь идет об отсеченной голове поэта — Иоанна Крестителя.
Образный строй этого стихотворения мрачен, но практически лишен диссонансов и намеков на внутренние конфликты, поскольку во всем тексте слышатся обреченность и согласие, в чем-то родственное молитве Иисуса в Гефсиманском саду. Маркирующие временные обозначения — ночь, полночь — и отъединенность лирического героя от мира поддерживают здесь ощущение неизбежности события, которое, конечно, трагично, но трагично по-своему. В атмосфере сгущенной метафизики, характерной для блоковской Венеции, в данном стихотворении возникает возможность интеграции, когда два члена образной формулы я — Христос[202] соединяются совершенно и герой в мистической точке безвременья способен увидеть свое прошлое, многое объясняющее в настоящем. В этом плане, как нам представляется, второе и третье стихотворения объединяются темой метемпсихоза, противоположно ориентированного во времени. В результате Венеция у А. Блока оказывается неким пороговым миром, способным реализоваться как в метафизике прошлого, так и в физике будущего. В целостности цикла блоковская Венеция гораздо более развоплощена, чем блоковский Петербург, но она несет в себе потенцию будущего воплощения, ярко выраженную в третьем стихотворении, потенцию, какой практически лишена в лирике А. Блока наша северная столица.
Между прошлым и будущим воплощениями и помещен А. Блоком «бархат черный», выступающий как знак смерти и одновременно как предвестник нового рождения. Двойственность этого образа как знака любви и смерти сохранится в «Веницейской жизни» О. Мандельштама, где завешенная черным бархатом плаха соседствует с упоминанием о «прекрасном лице», проецируя в текст стихотворения известный исторический и литературный сюжет, связанный с дожем Марино Фальеро и догарессой Аннунциатой.
Третье стихотворение «Венеции» А. Блока, продолжая второе во времени, частично совпадает с ним и в пространстве, в том его сегменте, что указывает на Пьяцетту, то есть Центр Венеции, знаково представляющий венецианский мир в целом. Здесь этот мир как место будущего рождения лирического героя противопоставлен другому миру, с которым у А. Блока, в отличие от О. Мандельштама, также связан «бархат черный» — миру России и Петербурга. В итоге пространственные соотношения в структуре данного стихотворения приобретают рамочный характер: три строфы, связанные с Россией, сумрачной страной, охватывают четыре венецианских строфы, фактически включая гипотетическое пространство Венеции в чуждый ей топос, но не растворяя в нем.
Последняя строфа заключительного стихотворения цикла, возвращая лирического героя и читателя к реалиям бытия, собирает цикл воедино, в одном стихе представляя характер каждого из трех стихотворений — «Мечты (первое стихотворение), виденья (второе стихотворение), думы (третье стихотворение) — прочь!» Последнее слово-жест данного стиха, кажется, отторгает все ложные, с позиции реалий, интенции, в том числе и возможность нового рождения в Венеции. Однако конечный образ бархатной ночи, в которую бросает лирического героя «волна возвратного прилива», явно перекликается с образом черного бархата из первой строфы и на каком-то ином, далеком от рационального, уровне сохраняет вероятность осуществления почти невозможного.
«Венеция» А. Блока в сравнении с «Веницейской жизнью» О. Мандельштама — текст неизмеримо более интравертированный. И дело здесь не только в доминирующих формах местоимения первого лица, но и, прежде всего, в той внутренней близости к венецианскому миру, благодаря которой поэту открывается широкий временной спектр бытия. Внутренне А. Блок с Венецией на «ты», хотя в тексте озвучено «она». У О. Мандельштама, напротив, в тексте звучит «ты», но внутренние отношения с городом скорее выражаются местоимением третьего лица. Магия водного города ощущается О. Мандельштамом как некая сила, необоримо подчиняющая себе всех, с ним соприкоснувшихся. Потому стихотворение О. Мандельштама есть развернутая метафора старости и смерти, любви и смерти, жизни как процесса смерти. Естественно, что это вызывает интенсивное желание противодействия и защиты. Именно в этой зоне натяжения отношений между городом и человеком и развертывается, по О. Мандельштаму, веницейская жизнь.
Пластической Венеции, знаки которой присутствуют у А. Блока, нет в стихотворении О. Мандельштама. Мандельштамовский образ, пользуясь его собственным сравнением из «Разговора о Данте», похож на «монумент из гранита или мрамора, который в своей символической тенденции направлен не на изображение коня или всадника, но на раскрытие внутренней структуры самого же мрамора или гранита»[203]. Поэтому второй стих произведения — «Для меня значение светло» [курсив наш. — Н. М.] — семантически ориентирован не на аксиологию, а на прояснение смысла. Правда, в общей структуре стихотворения, базирующейся на системе внутренних образных и смысловых стяжек, второй стих первой строфы симметрически перекликается со вторым стихом последней строфы и опровергается им: «Все проходит, истина темна» [курсив наш. — Н. М.]. Таким образом, О. Мандельштам как бы отказывается от окончательности определений, заменяя их многозначной метафорой — «И Сусанна старцев ждать должна», — в которой звучит мотив неправедного суда над красотой. Мир Венеции предстает в стихотворении О. Мандельштама как мнимый в силу его вторичности. Во всех приведенных поэтом деталях этот мир выступает как отраженный — в зеркалах, в театральном действе, в театральности праздника и ритуала, наконец, в отсылочности образов, как с черным бархатом — к А. Блоку, с сатурновым кольцом — к Ф. Тютчеву и с ориентированным на библейский сюжет о Ное началом третьей строфы.
Предмет в этом мнимом мире утрачивает определенность и может восприниматься двояко («Только в пальцах — роза или склянка») с почти контрастными, хотя отчасти и имеющими внутривенецианскую мотивировку, поворотами. Единственная достоверность в этом мире — Адриатика, но и на нее через цветовую перекличку — «Белый снег, зеленая парча»; «Адриатика зеленая, прости» [курсив наш. — Н. М.] — падает тень общей отраженности. Смерть в этом контексте тоже приобретает черты мнимости, театральности, живописной и литературной отраженности. От этого она не перестает быть смертью. Более того, дух смерти разлит в атмосфере мандельштамовской Венеции, но это в значительной степени умирание Я в роли, в образе, в любви. Безответный вопрос —