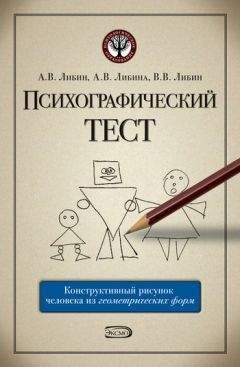Нина Меднис - Венеция в русской литературе
Далее, продолжая говорить о Земном Рае, в котором течет Лета, Мательда завершает свой монолог так:
Те, кто в стихах когда-то воспевали
Былых людей и золотой их век,
Быть может, здесь в парнасских снах витали:
Здесь был невинен первый человек,
Здесь вечный май, в плодах, как поздним летом,
И нектар — это воды здешних рек.
Столь значимый для Венеции, в том числе и муратовской, мотив сна возникает у Данте в связи с Земным Раем как высшей сферой Чистилища. Это важное уточнение в рассматриваемой нами ассоциативной формуле, представляющей Венецию как светлый и спокойный летейский мир. В предложенной П. Муратовым модели, где Венеция выполняет роль Золотых ворот Италии-рая, она и выступает как эквивалент дантовского летейского мира, Земного Рая, который есть преддверие Рая Небесного.
Еще одна черта роднит литературный венецианский мир с дантовским Чистилищем — души, обитающие в нем, не отбрасывают тени. Признак этот очень важен для Данте, ибо в сюжете второй части «Божественной комедии» обитатели Чистилища именно по тени опознают в Данте живого человека, влекутся к нему и вступают с ним в разговор. В литературной венециане аналогом отсутствия тени выступает отсутствие следа, обычно оставляемого лодкой или человеком:
… и города, где стопа следа
не оставляет — как челн на глади
водной…
В связи с рассмотренными параллелями становится понятной актуальность мифологической ориентированности венецианского летейского мира. Здесь следует выделить три образных вектора, первый из которых связан с представлением о Венеции как о зыбком мире, населенном тенями и призраками:
Там Байрон пел; там бродит меж гробами
Тень грозная свободы дней былых;
Там в тишине как будто слышны стоны
Пленительной, невинной Дездемоны.
Все призрачно глядит: и зыбь на влажном лоне,
Как марево глазам обманутых пловцов,
И город мраморный вдоль сжатых берегов…
Реет тень
И Порции, и Дездемоны.
«Казалось, бледные привидения заполнили город, прятались в темных углах и страшно высматривали, качались на балконах, царапали сткло, скалились на месяц и выли беззвучно»
(А. А. Трубников. «Моя Италия») (13).Второй вектор скрыто или явно указывает на ближайшее родство Танатоса со своим братом-близнецом Гипносом, сном. Мотив сна и сновидений очень развит в венецианском тексте: он оказывается одним из ключевых в романе Ю. Буйды «Ермо», проходит через сюжеты ряда стихотворений, путевых очерков. Мотив этот, как и многие другие, двусторонен — он связан и с героем (поэтом, лирическим героем), и с самой Венецией, спящей в веках:
К лагунам, как frutti di mare,
Я крепко и сонно прирос.
Ни движенья нет, ни шуму
В этом царстве тишины;
Поэтическую думу
Здесь лелеют жизни сны.
…Где грезят древние палаты,
Являя мраморные сны…
…Крылатый лев святого Марка
Сном вековечным задремал.
Увижу ли еще тебя когда-нибудь
Или сейчас с собой навеки унесу
Сияющую на земле, как в небе,
Сновидческую дикую красу.
Количество образов такого рода в русской венециане бесконечно велико. Третий вектор связан с образом ночи, которая, согласно орфикам, является дочерью Эроса-Фанета, а по Гесиоду — матерью Гипноса, Танатоса, Эфира и Дня. Данный вектор охватывает оба предыдущих и все они имеют родственные мифологические корни.
Последний, третий, образный ряд исключительно важен в мортальной парадигме венецианского текста, хотя не всегда открыто себя проявляет. В ряде случаев благодаря косвенным связям через мотивы сна, призрачности, волшебства, с одной стороны, и мотивы светлости, прозрачности, с другой, ночные образы воскрешают тот генетический ряд, который соединяет ночь с Гипносом, Эфиром, Днем и, в конце концов, с Танатосом. При этом тема смерти порой знаково присутствует в символике цвета, предметов, в мироощущении лирического героя:
Город, как голос наяды,
В призрачно-светлом былом,
Кружев узорней аркады,
Воды застыли стеклом.
Верно скрывают колдуний
Завесы черных гондол
Там, где огни на лагуне —
Тысячи огненных пчел.
… Может быть, это лишь шутка,
Скал и воды колдовство.
Марево? Путнику жутко,
Вдруг… никого, ничего?
Ночной мифологический комплекс, соприсутствующий в венецианском тексте с более поздними образными воплощениями, препятствует четкой раздельности дневного и ночного мира, тем паче их противопоставленности. Эмбрионы смерти с равной интенсивностью проявляют себя и в том и в другом. В значительной степени это связано с универсальным и сквозным для венецианского текста образом вод, которые в мифологической парадигме соположены хаосу и ночи. Немалую роль здесь играет и литературный миф о Венеции-Афродите, поскольку в мифах всепорождающая Ночь порой соединяется с Кипридой и сама становится порождением вод[195].
В этом смысле Венеция-Афродита в мифологизированном контексте оказывается аналогом Венеции-Ночи. Оба эти воплощения, и по отношению к мифу и вне его, роднит важнейший для литературного образа Венеции мотив инакости, который применительно к Афродите проявляет себя и в инакости рождения. А. Ф. Лосев со ссылкой на Дамаския по этому поводу пишет следующее: «Ночь отождествлена с вечной инаковостью или чистым инобытием на всех ступенях бытия, и в том числе прежде всего в области умопостигаемого. Это — чистое становление и возникновение, которое всегда иное и иное и которое никогда не есть что-нибудь определенное и устойчивое; это чистое отрицание и потому вечная тьма. Не надо, однако, забывать, что для античной мифологии это есть тьма в недрах самой божественности, в последней глубине всякого идеального и реального бытия, интеллигибельная тьма»[196].
Глубинно-мифологическая инакость ночи, ощущаемая всеми художниками, о ней и ее писавшими, в литературной венециане оборачивается подчеркнутой инакостью ночного города, а следовательно, и принципиальной инакостью в нем всех временных и пространственных проявлений, в том числе жизни и смерти. Умереть в Венеции — все равно что вернуться в мир, родной и знакомый до рождения, то есть как бы родиться обратно. Об этом своем до рождения мире, Доме души, писал в стихотворении «Венеция» В. Брюсов:
Здесь — пришлец я, но когда-то здесь душа моя жила.
Это понял я, припомнив гондол черные тела.
Это понял, повторяя Юга полные слова,
Это понял, лишь увидел моего святого Льва!
Поэтому пребывание в Венеции — это столько же воспоминание о сохранившемся в глубинах подсознания прошлом, сколько о будущем, особенно если учесть проявления признаков Чистилища в муратовском образе города. Отсюда, вероятно, и возникает образ Венеции как края жизни, порога, через который можно шагнуть и туда и сюда. Именно эта образная формула появляется у А. Кушнера в стихотворении, биографически связанном с И. Бродским:
И последнее. (Я сокращаю
Восхищенье.) Проплывшим вдвоем
Этот путь, как прошедшим по краю
Жизни, жизнь предстает не огнем
Залетевшим во тьму, но водою,
Ослепленной огнями, обид
Нет, — волненьем, счастливой бедою
Все течет. И при этом горит.
Здесь, как и во многих других произведениях русской литературной венецианы, возникают оксюморонные сочетания вроде «счастливой бедою», а весь контекст стихотворения воскрешает мандельштамовский образ «праздничной смерти», который у А. Кушнера проступает и в оценочно сложном образе гондол, с одной стороны, напоминающих о смерти, с другой — поражающих нарядностью, и в прорисовке страдания на фоне ярких красок и цветения: