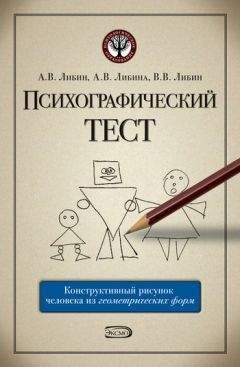Нина Меднис - Венеция в русской литературе
Последнее словосочетание — «приветствуя мрак» — прячет в глубине своей ту же не явленную оксюморонную природу, выражающуюся в радости смерти.
В Венеции между жизнью и смертью, прошлым и будущим нет четких границ. Переходы здесь сглажены, порой едва заметны, что очень ясно почувствовал и выразил И. Бунин в стихотворении «Венеция» (1922):
Колоколов средневековый
Певучий звон, печаль времен,
И счастье жизни вечно новой,
И о былом счастливый сон.
И чья-то кротость, всепрощенье
И утешенье: все пройдет!
И золотые отраженья
Дворцов в лазурном глянце вод.
И дымка млечного опала,
И солнце, смешанное с ним,
И встречный взор, и опахало,
И ожерелье из коралла
Под катафалком водяным.
Прошлое и настоящее сливаются у И. Бунина в ощущении счастья, а переходв небытие дарует утешение благодаря сакрализации, неизменному присутствию в венецианском мире Кого-то, несущего кротость и всепрощение. Смерть в результате оказывается лишь растворением во времени, счастливо нашедшем в Венеции свою обитель. Последние два стиха бунинской «Венеции» также являют модификацию сквозного для русского венецианского текста образа «праздничной смерти», а все вместе взятое и делает венецианские лики Танатоса столь привлекательными.
Мысль о смерти в Венеции порой появляется у художника еще на этапе предощущения водного города. Так, И. Бродский, рассказывая в «Трофейном» о первом знакомстве с Венецией по старым открыткам, пишет далее: «И, глядя на эти открытки, я поклялся себе, что, если я когда-нибудь выберусь из родных пределов, я отправлюсь зимой в Венецию, сниму комнату в подвальном помещении, с окнами вровень с водой, сочиню две-три элегии, гася сигареты о влажный пол, чтобы они шипели, а когда деньги иссякнут, приобрету не обратный билет, а дешевый браунинг и пущу себе там же в лоб пулю. Декадентская, ясное дело, греза… И все же я благодарен Паркам, давшим мне осуществить ее лучшую часть»[197].
Мысль о смерти в Венеции не оставляла И. Бродского и дальше. А. Кушнер в выступлении на вечере памяти И. Бродского в Фонтанном доме Санкт-Петербурга 9 февраля 1996 года вспоминает: «Когда-то все мы прочли „Смерть в Венеции“ Томаса Манна. Я помню, какое впечатление на нас произвел этот рассказ. Вообще, Венеция — это ведь любимый наш город. Можно сказать, после Петербурга второй, потому что он похож на Петербург, а Петербург похож на Венецию. Это город ближе всего стоящий к потустороннему миру. И ведь был фильм, где Иосиф на катере показывал рукой в сторону венецианского кладбища»[198].
Венецианское кладбище действительно присутствовало в сознании и творчестве И. Бродского. В «Венецианских строфах (1)» он говорит о С. Дягилеве, похороненном в Венеции, как о человеке, подобно самому И. Бродскому, пришедшем из другого, обоим знакомого, пространства:
Только фальцет звезды меж телеграфных линий —
Там, где глубоким сном спит гражданин Перми.
Поэт как бы оставляет и для себя не проговоренную возможность обрести конечный покой в Венеции под той же звездою. О кладбище Сан-Микеле И. Бродский пишет и в «Набережной неисцелимых» (252).
В ощущении И. Бродским «the island of the dead» есть нечто общее с ощущением Венеции С. Дягилевым, с тем, что выражено в эпитафии на его надгробном памятнике, о чем пишет С. Лифарь: «Тихо, торжественно-тихо на острове Сан-Микеле, где покоится Сергей Павлович… На памятнике Дягилева высечены слова, взятые мной из его записи на первом листе тетради, подаренной им мне для записи уроков Чеккетти: „Желаю, чтобы записи учения последнего из великих учителей, собранные в Венеции, остались так же тверды и незыблемы, как и сама Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений. Сергей Дягилев. Венеция — 1926“»[199].
Сан-Микеле — очень важный сегмент венецианского топоса. Его проекции обнаруживаются в самых разных деталях и образах городского мира. В русской литературной венециане 90-х годов ХХ века все эти аллюзии оказываются стянутыми к одному событию, к одной временной и пространственной точке — погребению в Венеции И. Бродского. Е. Рейн, рисуя в поэме «Через окуляр» (1998) сцену последней встречи с И. Бродским, переходит от описания ночной Венеции к описанию похорон на Сан-Микеле, связывая городской и кладбищенский миры:
Мы вышли на балкон, и он принес
бутылку, два стакана… Поздний вапоретто
спешил к Сан-Марко, пестрые огни
в канале разбегались, где-то пели
под фортепьяно. «Ну, теперь пора, —
сказал он мне, — увидимся в Нью-Йорке».
И мы увиделись уже на Бликер-стрит,
где похоронный подиум стоял…
Июньским утром резвый вапоретто
Доставил нас на Сан-Микеле,
по выложенным гравием дорожкам
прошли мы в кипарисовой тени.
Могильщики на новенькой коляске
катили гроб, и двести человек
могилу окружили…
Детали этого описания воспроизводят подлинные подробности пейзажа Сан-Микеле и одновременно отсылают к известным произведениям русской литературной венецианы, и прежде всего к О. Мандельштаму. Сочетание в цельном образе «резвого вапоретто» с символами смерти — кипарисами — семантически близко образу смерти у О. Мандельштама, тем более, что в сцену похорон у Е. Рейна вплетаются мотивы борьбы и первенства, своего рода «праздного вече» О. Мандельштама, которое тоже есть ристалище смерти:
Я задержался на минуту —
и вдруг увидел странную подробность,
быть может, мнимую — не тороплюсь судить:
у могилы лежала выщербленная плита
от старого надгробья, но сквозь патину
еще виднелись буквы на латыни,
и я их прочитал и ужаснулся.
Написано там было «Чемпион».
Взаимосвязанные мотивы жизни и смерти организуют и текст другого произведения, тоже говорящего о похоронах в Венеции, но уже безотносительно к И. Бродскому — это стихотворение А. Кушнера «Ну что за похороны — две всего гондолы!..» (1994), являющееся стихотворным переложением одной из сцен романа Г. Джеймса «Письма Асперна».
Помимо Сан-Микеле в литературной топике Венеции есть еще одно место, отчетливо связанное со смертью, — остров Лидо, крайняя на выходе в Адриатику точка венецианского пространства. Лидо был связан со смертью и фактически. И. В. Гёте в «Итальянском путешествии» писал об этом острове: «На Лидо невдалеке от моря хоронят англичан, подальше — евреев: и тем и другим не положено покоиться в освященной земле. Я разыскал могилу благородного консула Смита и его первой жены. Обязанный ему своим экземпляром Палладио, я возблагодарил его за таковой на этой неосвященной могиле. Если бы только неосвященной, но она еще и наполовину засыпана песком. Лидо ведь не более как дюна, море наносит песок, ветер гонит его во все стороны; целые горы песка местами скапливаются, и он проникает повсюду. В скором времени трудно будет отыскать даже достаточно высокий памятник на могиле консула»[200].
Вне кладбищенских мотивов, но как скорбное место, отмеченное знаками смерти, Лидо предстает в романе Тургенева «Накануне». Именно с посещения Еленой и Инсаровым острова Лидо начинается описание венецианских событий романа: «Гондола пристала к внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они умирают каждый год), на внешний край Лидо, к морю… — Какое унылое место! — заметила Елена» (149). Это начальное событие с очевидностью предвещает финал венецианской жизни героев — смерть Инсарова от чахотки.
С островом Лидо связана и смерть одного из героев рассказа Б. Зайцева «Спокойствие», ибо именно там происходит дуэль Туманова и Феди. На острове Лидо умирает и Ашенбах, герой одного из самых значительных произведений мировой венецианы, рассказа Т. Манна «Смерть в Венеции».
Однако тесная связь в Венеции любви и смерти придает последней особый характер. Не утрачивая своего трагизма, она становится вдохновенной, возвышенной, отдающей продолжение жизни возлюбленной или дарующей продолжение любви за чертой бытия. Такова смерть Инсарова, после ухода которого Елена пишет родным: «…Вчера скончался Дмитрий. Все кончено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его схороню, и что со мной будет, не знаю! Но уже нет мне другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мной будет, но я и после смерти Д. Останусь верна его памяти, делу всей его жизни» (165). В «Спокойствии» Б. Зайцева покинувший после дуэли Венецию Константин Андреевич через некоторое время узнает из газет о смерти в Венеции госпожи Тумановой, возлюбленной Феди. «Это его не удивило и не огорчило, — пишет далее Б. Зайцев. — Напротив, сердце стало биться чаще, ясней, как будто все исполнилось по его желанию» (127). Прощаясь с Адриатикой, герой прощается и с двумя близкими ему людьми, которые в любви и смерти соединились для него с Венецией и морем: «Надо было зачерпнуть адриатической воды и плеснуть ею к месяцу: в честь любви, друга, погибшего за нее на этих берегах, женщины, ушедшей за ним…» (128).