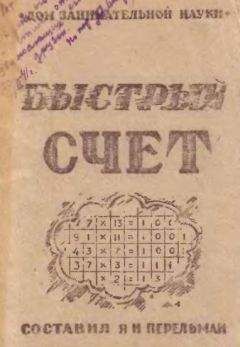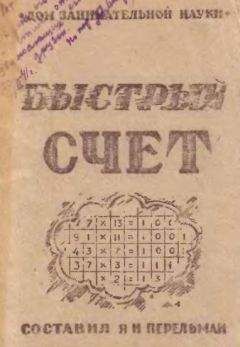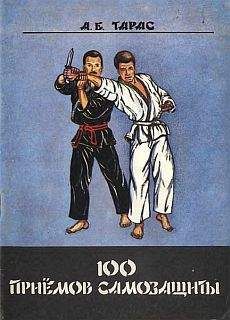Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева
Если в критических очерках Горького «Несвоевременные мысли» примерно той же поры написания и сходной тематики встречаются вихляния типа «нельзя не признаться, нельзя не сознаться», то «Окаянные дни» Бунина — это стопроцентная, без оглядок и извинений, воссозданная правда. Правда о том, что произошло с Россией, с народом. Это книга о Родине, о развале отчего дома и о себе.
Однако идеологические постулаты интерпретатора превыше фактов. Как же тут быть? Дело доходит до курьезов. С частными искривлениями вроде еще можно мириться ради таланта. Автор-атеист Твардовский готов еще, как популярно поясняет, не «вычеркивать, например, в “Воскресении” Л. Толстого цитаты из Евангелия (!?), приводимые в конце этой книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми. Однако всему есть предел (?!). Бунинские писания, подобные его дневникам 1917–1919 годов “Окаянные дни” <…> эти писания мы (?!) решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих “Днях” <…> (даже и останавливаться не стоит?!). Здесь мы должны выбирать: либо, отвергая Бунина-реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скатившегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом, либо <…> Выбор этот давно сделан (?!)». Кем, спрашивается? Отделом пропаганды ЦК КПСС? Или еще кем?
Таковы пределы либерализма даже у такого безукоризненно честного гражданина и человека, как Твардовский. Выдающийся художник, и он в таких случаях заговаривал на жаргоне советских полубогов, к которым по своему общественному положению частично принадлежал. Ведь за писание творческой установочной статьи принимался кандидат в члены ЦК КПСС, бессменный депутат Верховного Совета СССР, трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской премии и пр. пр. Удивительно еще, как высоко он взмывал и далеко уносился в поисках истины!
НОМЕНКЛАТУРНАЯ ХВОРЬ
Всякая болезнь духа имеет, конечно, свою предысторию. Когда же и где на общественной стезе произошел первый душевный слом у Федина? Или был не один, а много?
Виной фединских терзаний и нерешительности 1946 года — отвечать ли Бунину и, если да, то как, — помимо ходовых тогда мыслительных трафаретов, был почти физиологический страх. Ночные его наплывы и безысходные удушья, мешавшие жить и совершать простые естественные поступки, томили его несколько месяцев, начиная с лета 1944 года. Потом вроде бы всё понемногу отхлынуло, развеялось. Но черные напластования страха залегли где-то в глубинах души…
5 декабря 1956 года, который отмечался в стране как праздник Дня Конституции (сталинской, принятой ровно 20 лет назад по докладу И.В. Сталина, однако теперь уже без особых на то упоминаний), К.А. Федин оставил следующую запись в дневнике о герое своей трилогии — большевике Извекове: «5.XII — Смысл в том, что Извеков не сдается. И за это я его люблю. И за это будут его любить читатели.
Это моя праздничная мысль.
А сегодня праздник. Конституции. То есть лучшего по идее. Из всего, что у нас есть».
Смесь реального и идеального, действительных достижений и потоков лжи — вот что представляла собой эта Конституция. Если вспомнить одну только статью о руководящей роли партии, то документ этот не воплощал собой лучшего даже по отвлеченной идее. Но нехватка кислорода в окружающей атмосфере, видимо, подогревала жар самовнушений и толкала писателя к душевной экзальтации настолько, что он начертал и оставил эту запись для себя в дневнике.
Не в это ли десятилетие 30-х годов, когда создавалась сталинская Конституция и начали все чаще навещать Федина те самые навязчивые состояния, на которые позже, как на душевную хворь и жизненную западню, он жаловался в дневниках и письменных исповедях? Окончательно осозналось все это, а частично обратилось в кошмар наяву, может, и значительно позже. Но основы и трамплины для таких состояний закладывались уже тогда.
В дневниковых записях и письмах самым близким друзьям Федин признавался в неотвратимо совершавшихся с ним духовных утратах, жертвах «духа святого» ради самоспасения, самосохранения и расхожей репутации. Чувствовал, что иногда опускается, чуть ли не идет ко дну.
С горечью отмечал это, например, в письменной исповеди питерскому другу-этнографу М.А. Сергееву. «Беда, как ты знаешь моей жизни, — писал он там, — состоит именно в том, что я жертвую делами сердца ради всякого рода иных дел, не требующих ничего, кроме драгоценного и невозместимого времени. Одна из таких жертв тяготит меня больше всего: сердце (да и не одно оно, а все человеческое, что во мне еще живет, включая и бренное тело) требует, чтобы я сделал то «лучшее», о котором не перестаешь мечтать, как о лучшем, — это, конечно, книга — какая-то полноценная и полнокровная, от всей душевной силы написанная книга, зовущая к себе денно и нощно. Чувство это было и прежде — вот напишу самое лучшее, на что способен, напишу так, что все ранее написанное отойдет в небытие рядом с этим новым и — может быть — “совершенным”, — вот-вот напишу!…»
А вместо этого зачастую — поток бесконечных повседневных дел, полезных, бесполезных и вынужденных:«…Я все реже видаю людей, видеться с которыми хочу я, и почти постоянно обращаюсь среди тех, кому требуется видеть меня. Это значит, что я не езжу туда, где лично мне хочется быть, не встречаюсь с новыми и нечаянными характерами, а только варюсь и прею в окружении давно насквозь известных, до дна исчерпанных знакомцев и подвергаюсь привычному раздражению, не вызывающему во мне никакого “движения воды”, — дух мой чаще всего усыпляется и мертвеет в обыденном кругу “литературной” либо иной подобного рода среды. К этой же последней жертве “духа святого” относится и то усилие, какое требуется общественной моей репутацией для ее “поддержания”: я обязан выполнять некоторые поручения, считаться с потребностями представительства, вести угнетающую меня переписку».
«Ну, вот сколько я уже намахал, — продолжает Федин, — а ведь не сказал пока ничего нового, — все тебе давно и основательно известно. Я только хочу, чтобы ты не понял мое излияние как жалобу. Жаловаться надо бы на одного себя. В самом деле: почему я, при максимально благоприятных условиях, построил свою жизнь так, как она описана выше — из сплошных и довольно нелепых жертвоприношений? Не знаю. Не могу уразуметь… Разве только потому, что эти благоприятные условия не были бы возможны… если бы я строил жизнь как-нибудь по-иному? Чем черт не шутит — это, скорее всего, пожалуй, так!..» (Письмо от 20 июля 1954 г.)
Итак, жертвоприношение «духа святого» в угоду службе, внутренней свободы ради затверженных порядков, собственного искусства во имя житейских расчетов и выгоды.
Диктаторские общественные системы всегда изобретали разные формы (да и до сих пор, перелицовываясь, не оставляют стараний!), если и не полного обращения, то использования людей, цвета культуры, в качестве «говорящих патефонов», как в сердцах однажды выразился он сам. И, надо сказать, преуспевают немало. Не очень скоро и не сразу, но и Федин временами поневоле обращался в один из таких патефонов.
В 1939 году опубликован рассказ «Рисунок с Ленина», вошедший во все тогдашние хрестоматии.
Рассказ написан с «натуры». Летом 1920 года Федин в качестве корреспондента «Петроградской правды» слушал доклад В. И. Ленина на Втором конгрессе Коминтерна и присутствовал еще на двух его выступлениях на Марсовом поле и на Дворцовой площади. Результат наблюдений вылился в газетный романтический очерк 28-летнего репортера под названием «Крупицы солнца». Молодой журналист очень старался, но патетика чувств, пафос сиюминутных переживаний да и духовная неопытность, по позднейшей собственной оценке, возобладали над пластикой изображения.
В сюжете рассказа «Рисунок с Ленина» на место былого репортера определен вымышленный персонаж — молодой живописец, пытающийся по ходу выступления Ильича в многочисленных эскизах запечатлеть на бумаге его портрет. А результат все тот же — не получается! Гений и пламень неуловимы! Якобы неисчерпаемое богатство «натуры» делает грубыми и неуклюжими все эскизы. На неудачу, сходную с некогда пережитой им самим, автор обрекает героя. Однако… Автором рассказа упускается из виду кажущаяся малость — два десятилетия, прошедшие с той поры. Опыт исторического познания, жизненных испытаний, приобретенный за это время не только писателем, но и читателем. Сочинение, хотеть этого или нет, заведомо сориентировано на легенду — на бездумное, некритическое восприятие и мышление. На усредненного читателя, привыкшего с доверительной безразборчивостью глотать идеологические штампы.
Между тем взгляд думающего и хотя бы отчасти критически настроенного современника через два десятилетия никак уж не может сбрасывать со счетов, во что обошлось людям, народу России обожествление этого политика и его идей. Тем более если смотреть нынешним взглядом, без шор, перед нами не только намеренная фабульная неудача. При мастерстве литературного исполнения весь рассказ — идеализированная «натура», тонко изукрашенный шаблон, еще одна вариация насаждаемых в массы идеологических представлений о том, каким якобы «солнцем» без пятен и святым неуловимым духом был гений революции.