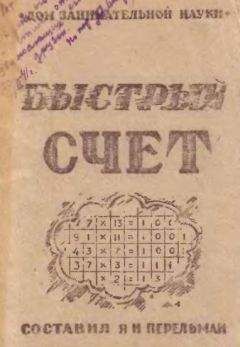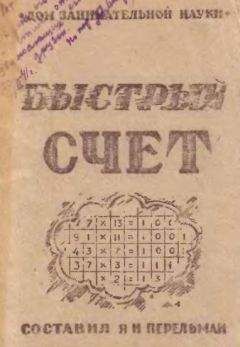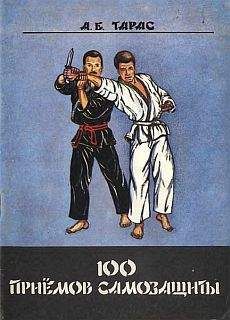Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева
Правда, конечно, и то, что в Москве, неподалеку от Федина, проживал уже упоминавшийся друг и ровесник Бунина Николай Дмитриевич Телешов. Даже в самые жестокие развороты событий конца 30-х годов он не обрывал переписки с французским эмигрантом. И об этом при случае не страшился сообщать в близком кругу. Но то был глубокий старик, музейная редкость — и что с него взять?!
Федин же наедине с собой внутренне вымеривал, расставлял. Собственную тревогу отодвигал вспышками рассуждений — где тут осторожность, трусость, а где мера здравого смысла? Корил, но и оправдывал себя. Словом, расчетливость, опасливость и страх возобладали над высшими порывами сердца и души. Даже «побратиму» Соколову-Микитову, похоже, не сказал всего. Не хотел слишком растравлять Ивана Сергеевича перспективой несбыточных общений.
Ведь в глазах того Бунин был существом особым, наивысшим авторитетом. Чувство укоренилось после их былых личных встреч. В сумятицу Гражданской войны в Одессе, занятой тогда белыми, Бунин напечатал в здешней газете один из деревенских рассказов молодого черноморского матроса с зашедшего в порт торгового судна. Тут же предложил ему «фиксу» — постоянную оплату за дальнейшее сотрудничество. Дарственной надписью на своей книге «Человек из Сан-Франциско» благословил талант.
Своим творческим самоопределением Соколов-Микитов обязан был не только Аксакову с его «Семейной хроникой» или Тургеневу с «Записками охотника», как было принято подчеркивать в глухие советские времена, но и Бунину прежде всего, начиная с его беспощадно правдивой повести «Деревня».
Впрочем, и Федин тогда многого не знал. Само письмо Бунина он прочитал лишь четверть века спустя, в начале 70-х годов. Когда оно вместе с другими бумагами поступило из Парижа в Москву для готовившегося двухтомника «Литературного наследства» от вдовы писателя Веры Николаевны Муромцевой. Иван Алексеевич умер еще в ноябре 1953 года. Вот теперь, через даль лет, адресат заново взглянул на себя. Но терзаться своим поступком он начал много раньше.
В дневниках, которые теперь опубликованы, Федин вновь и вновь возвращается к оценкам Бунина и его творчества. Воспоминает о полученных по почте книгах. Казнит себя. «По-прежнему возвращаюсь к Бунину, — записывал он 23 октября 1957 года, — стыжусь, что промолчал в ответ на подаренные им книги».
Осторожность, трезвый расчет, умение взнуздывать и держать в кулаке свои чувства, как бы ни билось и ни трепыхалось сердце, — вот что не раз выручало и спасало его в жизни. И это же, как он знал, было его гибелью. Было его проклятьем.
Грех своего давнего малодушия к человеческой судьбе и искусству Бунина Федин исправил выступлением на Втором съезде писателей в декабре 1954 года. Ударным моментом речи стали характеристика и оценка литературного наследия Бунина, «русского классика», как он впервые заявил с высокой советской трибуны, и призыв возвратить на родину его книги.
«Не следует, по моему мнению, — звучал вывод, — отчуждать Бунина от истории русской литературы, и все ценное из его творчества должно принадлежать читателю». Атакующее по тем временам новшество.
19 мая 1955 года Федин записывал в дневнике: «После того, как я осмелился сказать о Бунине в речи на Съезде, его оживляют: выбрали несколько маленьких вещей для “Нового мира”, еще робко, с предварением читателя о его роковой “позиции”. Будет скоро выпускать книги Гослитиздат… Все же я сделал, что мог: назвал имя».
Добавлю здесь, что «Новый мир» в это время редактировал К.М. Симонов. И он тоже по-своему торопился исправить казенные зигзаги своего поведения чуть не десятилетней давности.
Среди тех, кто наезжал в село Карачарово Калининской области, где в деревенском домике вдали от суеты проживал Соколов- Микитов, ученик Бунина и самобытный художник, помимо Федина, был, как уже сказано, еще один давний поклонник того же мастера — Александр Твардовский. Причем интерес тут также был взаимным и обоюдным.
Еще в первые послевоенные годы Бунин ознакомился с поэмой Твардовского «Василий Теркин». Под впечатлением от прочитанного Бунин писал в Москву Н.Д. Телешову (10 сентября 1947 года): «…Прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом». О самом «Теркине» тут же прибавлял: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, какая точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, т.е. литературно-пошлого, слова».
…Издательский шлюз для книг Бунина в СССР в 1954 году открыл Федин.
А когда в 1965 году в Москве началось издание девятитомника Бунина, веское слово о нем сказал Твардовский. Ему принадлежит Вступительная статья «О Бунине» к первому после почти полувека вытравливаний и насильственного забвения Собранию сочинений писателя (1965–1967 гг.). Более 40 страниц убористого текста — тоже первый такого размаха и исследовательского полета монографический очерк о писателе-эмигранте в СССР. Далеко не безукоризненный, конечно, а в некоторых местах даже уязвимый и ложный (если принимать во внимание некоторые биографические оценки поведения Бунина в Гражданскую войну, суждения о его книге «Окаянные дни», общие представления о зарубежной русской эмиграции и т.п.), но содержащий глубокие проникновения в особенности художественного мира русского классика. Между прочим, в перечне современных учеников Бунина Твардовский называет и Федина…
Твардовский любил творчество Бунина, которого «усердно перечитывал в молодости по его “нивскому собранию сочинений”». «В моей собственной работе, — признавался автор, — я многим обязан И.А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности»
В связи с темой жизненных и духовных взаимоотношений — Федин, Твардовский и Бунин — стоит сказать об этом чуть подробней.
Во Вступительной статье Твардовского проанализированы произведения Бунина «деревенского цикла», включая центральную дореволюционную повесть «Деревня» (1910). Причем проделано это не только с общественно-политических позиций. Прослежены одновременно главные «мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе» — любовь и смерть.
Поэту любви Бунину, как художнику, было присуще врожденное чувство смерти. Разбить лед казенного оптимизма стремится и Твардовский. «Немалое число людей… — замечает он, — с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертны, все там будем, вообще не впускают в круг своих размышлений полной реальности своего конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере, в удобное для них время. <…> Такая беззаботность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно…»
Высокой проникновенности достигает пишущий, когда обращается к разбору дарований Бунина-художника и применяемой им системы изобразительных средств. Вместе с автором статьи читатель совершает путешествие в мастерскую писателя.
Напротив, козлы ржавой колючей проволоки и баррикадные завалы взгромождаются перед духовным собеседником, как только речь заходит о священных и непререкаемых постулатах. Об Октябрьской революции, большевиках и советской власти…
Один из главных поводов для таких размежеваний — книга «Окаянные дни», возникшая в 1917–1919 годах. Дни, когда, по словам Бунина, «раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке».
Факты и картины происходящего вокруг воспроизводятся Буниным-очевидцем именно с широких гуманитарных позиций. И уж, конечно, не только из-за житейских передряг (как выражается автор статьи) «застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения» «его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук».
Если в критических очерках Горького «Несвоевременные мысли» примерно той же поры написания и сходной тематики встречаются вихляния типа «нельзя не признаться, нельзя не сознаться», то «Окаянные дни» Бунина — это стопроцентная, без оглядок и извинений, воссозданная правда. Правда о том, что произошло с Россией, с народом. Это книга о Родине, о развале отчего дома и о себе.
Однако идеологические постулаты интерпретатора превыше фактов. Как же тут быть? Дело доходит до курьезов. С частными искривлениями вроде еще можно мириться ради таланта. Автор-атеист Твардовский готов еще, как популярно поясняет, не «вычеркивать, например, в “Воскресении” Л. Толстого цитаты из Евангелия (!?), приводимые в конце этой книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми. Однако всему есть предел (?!). Бунинские писания, подобные его дневникам 1917–1919 годов “Окаянные дни” <…> эти писания мы (?!) решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих “Днях” <…> (даже и останавливаться не стоит?!). Здесь мы должны выбирать: либо, отвергая Бунина-реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скатившегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом, либо <…> Выбор этот давно сделан (?!)». Кем, спрашивается? Отделом пропаганды ЦК КПСС? Или еще кем?