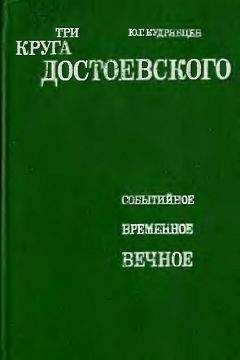Ян Пробштейн - Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии
Совершенно ясно одно: Р. Мандельштам не писал стихи на темы античной истории или мифологии, но переживал их как реальное событие — здесь и сейчас. Еще в одном стихотворении поэт несколько по-иному связывает с современностью тревожный эпизод в истории Рима, когда во время восстания карфагенян после поражения в I Пунической войне полководцы Гамилькар и его зять Гасдрубал двинулись на завоевание Испании в 221 г. до н. э. — одушевляя образ листопада как римского воина и используя сравнение «Ночь идет, как мамонт Гасдрубала»:
Розами громадными увяло
Неба неостывшее литьё —
Вечер, догорая за каналом,
Медленно впадает в забытьё.
Ярче глаз под спущенным забралом
Сквозь ограды блещет листопад —
Ночь идет, как мамонт Гасдрубала —
Звездоносный плещется наряд.
Что молчат испуганные птицы?
Чьи лучи скрестились над водой? —
В дымном небе плавают зарницы,
Третий Рим застыл перед бедой.
Первая строфа — состоит из повторяющихся во многих стихах Мандельштама образов не называемого им, за одним-единственным исключением (об этом ниже) Петербурга. Вновь, как это всегда у Р. Мандельштама, природные явления переживаются как события внутренней, духовной жизни. Кроме того, противопоставляя листопад с опущенным забралом и ночь, идущую как мамонт Гасдрубала, поэт «наблюдает» сражение между Римом и Гасдрубалом. Как он сам писал в дневнике 29 мая 1958 г.:
«Я люблю слова, потерявшие грубую материальность. „Легион“ не вызывает ощущения реального. Слыша эти слова, невозможно увидеть пропотевших пропыленных солдат — это только сверкающие доспехи и оружие / скорее щиты, нежели мечи. Я пользуюсь этим понятием в творчестве, когда мой дух тревожен, обороняясь, или в ожидании боя. Такие слова — куколки, из которых бабочки уже улетели»[279].
Образные и исторические параллели неожиданно выводят к концепции «Москва — Третий Рим», переосмысленной поэтом, что вполне соответствовало идеологии Петра I, как было показано Ю. Лотманом и Б. Успенским в работе «Отзвуки концепции „Москва-третий Рим“ в идеологии Петра Первого»: «Семиотическая соотнесенность с идеей „Москва — третий Рим“ неожиданно открывается в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал второй»[280]. Продлевая дальше параллель, поэт говорит уже о беде, грозящей «третьему Риму», и мы понимаем, что и сгинувшая «Атлантида», название примечательного стихотворения Р. Мандельштама, о котором ниже, — не только образ сгинувшего города, но и сгинувшей культуры, в то время, как людей — не людишек — нет в образовавшейся пустоте потому, что «золотые мётлы пулеметов/ подмели народ на площадях». Так на образном уровне осуществляется связь времен. Однако не Карфаген, и даже не Рим, а «Третий Рим застыл перед бедой», и нам становится ясно, что поэт находится в стане обреченных, но не сдающихся. Остается лишь умереть достойно — в бою:
Воет томительный рог,
К бою готовы друзья.
Нету окольных дорог —
Жить побеждённым нельзя!
Как бы подчеркивая пафос и не отвлекая внимание читателя-слушателя, поэт строит стихотворение на точных неэкстравагантных рифмах. Роальд Мандельштам — поэт экзистенциальный, усвоивший не только уроки ремесла у Тютчева («Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, / Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!» — «Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком, тот вырвал из рук их победный венец»), Гумилева («Есть много жизней достойных, /Но одна лишь достойна смерть, /Лишь под пулями в рвах спокойных / Веришь в знамя Господне, твердь»), Осипа Мандельштама («Мы умрем как пехотинцы, /Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи»). Не случайно, Роальд Мандельштам напрямую цитирует своего великого собрата в своем стихотворении:
Нет, пощады от жизни не ждать.
Но всегда Беззаботно смеяться над ней —
«Мне на шею кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей».
Именно поэтому поэт обращается к Тилю и Ламме, к Дон-Кихоту, к Спартаку, которому посвятил поэму, и даже к Катилине. У Роальда Мандельштама есть немало прямых подражаний Блоку, Бальмонту, Гумилеву или Осипу Мандельштаму — это естественно для молодого поэта (хотя в те годы молодые поэты подражали в лучшем случае Пастернаку, а то и Твардовскому, Луговскому, Прокофьеву и т. д.). Было немало советских поэтов, как бездарных, так и талантливых, как например, Николай Тихонов, усвоивших (или пытавшихся усвоить) уроки символистов и акмеистов, переводя их поэтику, прости Господи, на советскую почву. Мандельштам не приемлет советской системы, ее ценностей и окружающей его действительности. Удивительно не это, однако, а то, что он совершенно сознательно выстраивает стройную иерархию культурных ценностей, обращаясь к Элладе и Риму, к Средневековью и рыцарскому роману, к трубадурам (не случайно у него столько стихотворений озаглавлено «Альба», хотя и здесь он работает на сдвиге, соединяя жанр лирики трубадуров равно, как и любимого им Лорку, и «золотую, как факел, Элладу!»), к Данте и Сервантесу (об этом ниже). Поэтому я не могу согласиться с тем же Медведевым, который сравнивал Роальда Мандельштама с французскими проклятыми поэтами (les poètes maudits). Действительно, и Бодлер, и Верлен, и Рембо были его любимыми поэтами и у него есть немало общих с ними мотивов, начиная с неприятия действительности, антагонизма:
Спите спокойно, в смерти поэта
Нет никаких перемен.
Спи, не тревожась, сволочь людская —
Потный и сладенький ад!
Всякий «философ», томно лаская
Нежный и розовый зад…
У любимого им Рембо встречается и подобный антагонизм, и неприятие окружающей пошлости, и такое же стремление взорвать обывательский ад:
Отворите ноздрю ароматам клоак,
Обмакните клинки в ядовитые гущи.
Вам поэт говорит, подымая кулак:
— Сутенёры и трусы! Безумствуйте пуще!
Для того, чтоб вы щупали влажный живот
Вашей Родины-Матери, чтобы руками,
Раскидав её груди, приставили рот
К потрясаемой спазмами яростной яме!
Сифилитики, воры, шуты, короли!
Ваши яды и ваши отребья не могут
Отравить эти комья парижской земли,
Смрадный город, как вшей, вас положит под ноготь.
В отличие от них, у него не было ни нарциссизма, ни агонизма, ни мучительной раздвоенности — он вообще мало занят самокопанием. В отличие, скажем, от Корбьера, он воспевал не только бродяг и воров, хотя и «Мои друзья», и «Тряпичник» сродни Корбьеру:
ТРЯПИЧНИК
Туман, по-осеннему пресный
От ветра шатается. — Пьян.
Пришёл ко двору неизвестный.
Воскликнул:
— Тряпьё-бутыл-бан!
Приму ли диковинный вызов —
Нелепый татарский девиз?
(Ворона, бродившая низом,
Стремительно ринулась ввысь.)
— О, думаю, мудрая птица, —
Не любит дворовых тревог!
Но, молча
швыряю
в бойницу
Бутылку и рваный сапог.
У Корбьера в «Ночном Париже» есть похожая картина и родственный мотив:
Вот пересохший Стикс. И с фонарём по свалке
Старьёвщик Диоген идёт в пальтишке жалком.
Поэты удочки закинули в ручей,
А черепа у них — как банки для червей[281].
Однако — эпоха несколько другая: как показано выше, Роальд Мандельштам переживает как трагедию отсутствие воздуха, и культурный вакуум для него — трагедия, а не трагичность. Не случайно же он остроумно назвал Сталина гуталинщиком, а когда Сталин умер, Арефьев, Р. Мандельштам и Гудзенко, взявшись за руки, плясали как бешеные и кричали: «Гуталинщик сдох!» Сестра вспоминает, что когда на некоторое время к власти пришел Маленков и пообещал улучшить благосостояние народа, Алик тут же назвал его ванилинщиком.
После самоубийства художника Преловского, связанного не только с наркоманией, но и, как говорят, с тем, что он попал на крючок КГБ, антагонизм и отчасти агонизм в поэзии Роальда Мандельштама усилился. Это видно и по стихам из «Дома Гаршина», приведенным выше, и явственно в «Доме Повешенного», и в «Эпитафии», посвященной не только Преловскому, но и себе: