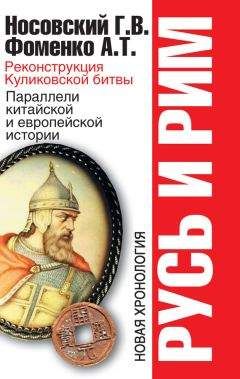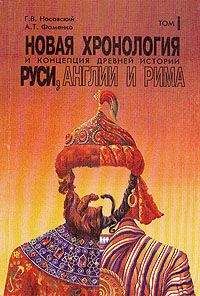Руслан Киреев - Великие смерти: Тургенев. Достоевский. Блок. Булгаков
Можно сказать, что смерть помогла ему обрести отца. Ничего удивительного: по Блоку, смерть — это всегда не только и даже не столько потеря, сколько обретение. Он благодарен ей за это — благодарен настолько, что готов целовать ее след. «Смерть, целую твой след...» — этих слов, правда, нет в окончательном варианте стихотворения («Дух пряный марта был в лунном круге»), но в черновике они присутствуют. Написаны стихи через три месяца после варшавских похорон, в часовне на Крестовском острове; Блок очень редко обозначает место, где создано то или иное произведение, но в данном случае счел необходимым сделать это...
Варшава подарила ему не только отца (одновременно забрав его, и в этом не столько парадокс, сколько закономерность), она еще подарила ему сестру. «Запомним оба, — писал он, обращаясь к ней, — что встретиться судил нам Бог в час искупительный — у гроба».
Это была девочка от второго брака, уже давно распавшегося. Звали ее Ангелиной. К тому времени она прожила на свете 17 лет, но не подозревала о существовании своего единокровного брата, как, впрочем, и он о ней. Встретились и впрямь «у гроба», на похоронах. Встретились, познакомились и явно пришлись друг другу по душе. «Моя сестра и ее мать настолько хороши, что я даже чувствую близость к ним обеим, — писал Блок жене. — Ангелина интересна и оригинальна, и очень чистая». В письме к матери, написанном в тот же день, он добавляет, что у него с сестрой много общих черт, и называет одну из них: ирония, причем берет это слово в кавычки, как бы подчеркивая, что толковать его надо не в общепринятом значении, а в том, какое вкладывает в него он, Александр Блок.
Письмо написано 9 декабря — ровно через год после того, как в печати появилась небольшая, но чрезвычайно важная для понимания поэта статья, которая так и называлась «Ирония». Ей предпослан эпиграф из знаменитого стихотворения Некрасова, обращенного к Авдотье Панаевой и начинающегося словами: «Я не люблю иронии твоей». Если верить дате под стихотворением (а в случае со склонным к некоторой мистификации Некрасовым это не всегда следует делать), Николай Алексеевич написал его в том же возрасте, в каком сейчас находился Александр Александрович: обоим было по 29 лет. Мало? Ну, как сказать... Во всяком случае, Некрасов, говоря пусть о идущей на спад, но все еще страсти, сокрушается, что у него «в сердце тайный холод и тоска». То же самое мог сказать о себе Блок, и часто говорил, хотя, естественно, иными словами, с иной интонацией. В «Автобиографии» он признается, что ему не было пятнадцати, когда его начали мучить «приступы отчаянья и иронии». Последняя щедро окропила спустя годы его первый драматический опыт под игривым названием «Балаганчик».
О своеобразной иронии творца «Балаганчика» свидетельствуют многие мемуаристы. Она не часто прорывалась наружу, а если и прорывалась, то весьма сдержанно — одним каким-нибудь словом, взглядом, жестом. «Он выговаривал с совершенно серьезным лицом нечто, что вызывало шутливые ассоциации, и не улыбался, устремив свои большие бледно-голубые глаза перед собой», — живописует Андрей Белый.
Блок будто бы стеснялся глубоко запрятанной в нем иронии, как стесняются заразной болезни. Именно это слово — «болезнь» — и употребляет он в первой же фразе своей статьи: «Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам». И дальше, о страдающих этим недугом людях: «Им не верят или перестают верить. Человек говорит, что он умирает, а ему не верят. И вот — смеющийся человек умирает один». Что, полагает он, справедливо и даже необходимо — с гигиенической хотя бы точки зрения. «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих», — заклинает он в письме к молодой поэтессе, ровеснице его неожиданно обретенной сестры, которой посвятил вторую редакцию «Возмездия».
Еще тогда, в декабре 1909 года Блок разглядел в ней симптомы страшного недуга и понял, чем это чревато. Предчувствие не обмануло: в 25 лет Ангелина скончалась, на три с половиной года опередив брата. Критик Евгения Книпович приводит в своих воспоминаниях слова поэта, сказанные им в марте 1918 года: «Сегодня я узнал, что моя сестра умерла.. Она должна была умереть — ее так и воспитывали к смерти».
Что значит — должна? Знак, что ли, был какой на ней?
Да, знак — для большинства неразличимый, но Блок подобную тайнопись разбирал прекрасно. А если и нет, то объяснял это не отсутствием знака, а своим, может быть, случайным невниманием. Так, за день до кончины его отца умер от сердечного приступа в подъезде Царскосельского вокзала Иннокентий Анненский. Для всех эта скоропостижная смерть явилась, разумеется, неожиданностью — для всех, в том числе и для Блока. «На нем она не была написана, — с удивлением констатировал он. — Или я не узнал ее». Констатировал именно с удивлением — обычно он такие вегци узнавал. «Мы на стенах читаем сроки...»
«Мы» — это поэты, в том числе поэт Анненский, стихи которого, говорил Блок, отзывались у него «глубоко в сердце». «Невероятная близость переживаний, объясняющая мне многое в самом себе», — писал он сыну покойного.
Тем не менее факт остается фактом: не узнал... Но это, конечно, было исключением. Обычно приближение гибели — не только отдельно взятого человека, но и целого государства — чуял издали. Прекрасно слыша — у Блока был феноменальный слух — нарастающий гул, понимал лучше иных политиков, что впереди назревают «неслыханные перемены, невиданные мятежи».
Они не путали его. «Поздравляю Тебя с новыми испытаниями и переменами, которые предстоят нам скоро», — писал он Андрею Белому, и этот высокий слог (обращение с большой буквы, торжественное «поздравляю») свидетельствует, что ожидаемые им с таким нетерпением перемены — отнюдь не косметического порядка. Они глобальны, то есть революционны, а значит близки Блоку. Не случайно между двух потрясших Россию революций, как раз посередке, летом 1911 года, взахлеб читает книгу английского историка Томаса Карлейля «Французская революция», называя ее гениальной. «Демократия приходит, опоясанная бурей», — любит он цитировать из этой книги.
Но ведь всякая социальная буря несет разрушение и гибель. Ну что ж, о своем отношении к гибели, как таковой, к самому феномену гибели он высказывался неоднократно. Вот еще одно признание, вернее, напоминание, которое Блок позволил себе в письме опять же к Андрею Белому, подчеркнув в нем ключевые слова: «Я люблю шбелъ, любил ее искони и остался при этой любви». Что же касается разрушения, которое обычно гибели предшествует, то он принимает его как данность, даже если речь идет о разрушении, о разграблении родового имения.
«На холме — белый дом Германа, окруженный молодым садом, сияет под весенним закатом, охватившим всё небо. Большое окно в доме Елены открыто в сад, под капель. Дорожка спускается от калитки и вьется под холмом, среди кустов и молодых березок».
Герман и Елена — герои драматической поэмы «Песня судьбы», которую автор назвал в одном из писем своим любимым дитятею и действие которой разворачивается в Шахматово. Тот же дом на холме, та же дорожка, тот же сад... Вот разве что реальный сад был разбит не вокруг дома, а вокруг флигеля, но это не важно. Главное — для него это было местом заповедным, где он, «провел лучшие времена жизни». Это его собственное признание, он сделал его в статье, посвященной памяти Леонида Андреева, и добавил, что ныне от этих мест ничего не осталось, разве что «старые липы шумят, если и с них не содрали кожу».
Со всего остального содрали. Унесли все, что можно было унести — разграбили, осквернили, еще в ноябре 17-го. Узнав об этом, Блок, по воспоминаниям современников, лишь махнул рукой: туда, дескать, ему, белому дому на холме, и дорога.
Что это? Стоическое принятие судьбы? Искус разрушением? Хорошо, давно знакомый ему искус, которого он не хотел и не мог преодолевать? Любовь Дмитриевна пишет о битье им мебели и посуды — «хватал со стола и бросал на пол все, что там было, в том числе большую голубую кустарную вазу», которую она ему подарила и которую он «прежде любил». Такое происходило и раньше, но особенно усилилось перед смертью.
Усилилось что? Любовь Дмитриевна не может найти объяснения тому, что видела собственными глазами, просто пишет, что у мужа «была страшная потребность бить и ломать: несколько стульев, посуду, а раз утром, опять-таки, он ходил, ходил по квартире в раздражении, потом вошел из передней в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары, и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что себе принесет какой-нибудь вред; но он уже кончил разбивать кочергой стоявшего на шкапу Аполлона».
Любимая ваза ручной работы (тогда говорилось — кустарная), извечный Аполлон, символ красоты... Выходит, из обозначенной им триады — «люблю я только искусство, детей и смерть» — осталась только смерть. Детей не было, красоту крушил собственными руками.