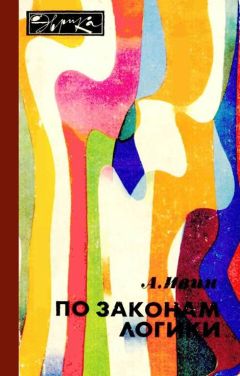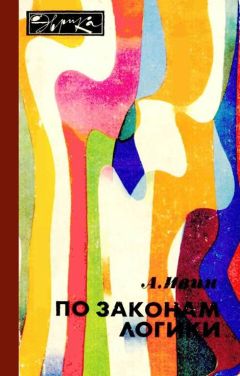Семен Экштут - Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного
В поэме «Золотой колокольчик» двенадцать глав и три тысячи строк. Ежедневно Геннадий, которому очень нужны деньги, переводит по шестьдесят строк четырёхстопным амфибрахием — это много. По существующим тогда нормам оплаты литературного труда и поэту, и переводчику платили построчно. Учитывая то, что «Золотой колокольчик» планируют издать не только в Москве, но и в Минске, Геннадию и Мансуру светит неплохой гонорар, соизмеримый с первым взносом за кооперативную квартиру. А учитывая то, что опусы национальных авторов издавали массовым тиражом в десятки, а то и сотни тысяч экземпляров (меньших тиражей в то время просто не было), поэт и переводчик получат ещё и неплохие потиражные отчисления. Ни о чём подобном сегодняшние литераторы не могут даже мечтать. Очевидно, что «Золотой колокольчик» — поэму о девушке, которую «односельчане прозвали так за звонкий, мелодичный голосок»[128], не будут читать ни на русском, ни на туркменском языках. Весь тираж заляжет мёртвым грузом в книжных магазинах и на складах библиотечных коллекторов. Скорее всего, «Золотой колокольчик» будут давать в нагрузку к дефицитным книгам. И это при постоянном тогда дефиците бумаги! Такое было возможно только в СССР, когда развитию национальных культур уделялось огромное внимание, не в пример центру. В те годы невозможно было купить стихотворные сборники не только Ахматовой, Цветаевой или Пастернака, но даже сборники Тютчева, Фета или Баратынского!
Современному читателю необходимо объяснить реалии недавнего прошлого. Союз писателей меньше всего был творческим объединением. Фактически это был государственный департамент по делам литературы, в котором была своя Табель о рангах — жёсткая иерархия, хорошо оплачиваемые штатные должности и свои литературные генералы. Ни о какой экономической эффективности или самоокупаемости деятельности Союза речи не было. Власть не жалела денег на идеологию, почитая всех писателей или «инженеров человеческих душ» бойцами идеологического фронта. Геннадий, переводя с подстрочника на русский язык национальных поэтов, фактически выполнял идеологический заказ власти, полагавшей необходимым, не считаясь ни с какими материальными издержками, поощрять развитие национальных литератур. Трифонов вскользь сообщает, что подстрочники для перевода Геннадий получал в восьми местах. Однако эти заказы не были регулярными: то густо, то пусто. Сам Геннадий беспощаден к самому себе: «…знания мои приблизительны, интеллигентность показная, я никогда всерьёз не читал Ницше и ничего по-настоящему не знаю ни о Персии, ни о Заратустре, а немецким и французским языками владею лишь в той степени, чтобы в туристической поездке сказать кельнеру в ресторане: „Пожалуйста, ещё хлеба!“»[129].
Но даже занимая одну из низших ступеней в этой Табели о рангах, переводчик Геннадий Сергеевич мог позволить себе вести такой образ жизни, о котором не мог и мечтать не только рядовой инженер, но и остепенённый учёный. У него хорошая трёхкомнатная кооперативная квартира, в которой 62 квадратных метра жилой площади, не считая кухни, прихожей и кладовки. (Считая это обстоятельство весьма существенным, автор повести дважды указывает метраж кооперативной квартиры.) Нет ничего удивительного в том, что эти роскошные хоромы поразили воображение кузена Геннадия, обычного заводского инженера, и его жену — сотрудницу проектной организации. В огромной, по советским меркам, квартире живут три человека: Геннадий, его нигде не работающая жена Рита и их сын студент Кирилл. И хотя в жизни Геннадия периодически бывали времена продолжительного безденежья, в доме всегда была домработница. Геннадий живёт с Ритой уже двадцать лет, это его вторая жена, но настоящей душевной близости между супругами давно нет.
Когда-то красавица Рита, фактически уведя женатого Геннадия из семьи, надеялась, что со временем он станет незаурядной личностью. Прошли годы, и она поняла, что жестоко обманулась в своих расчётах, обнаружив сходство своего мужа с чеховским профессором Серебряковым из «Дяди Вани», который, как известно, долгие годы писал об искусстве, ничего в нём не понимая. Профессор так и не стал мировым светилом, чем жестоко обманул ожидания близких. И во времена Чехова, и во времена Трифонова творческие профессии стали массовыми, и их представители уже не могли претендовать на исключительность только самим фактом принадлежности к этим профессиям. Человек творческой профессии и человек незаурядный перестали быть синонимами. Чехов и Трифонов были первыми, кто открыл своим современникам эту истину. «Но главное, что было в Рите, при всех её качествах и невозможностях, — она понимала, что я такое, как я задуман и что из меня получилось. <…> Рита сказала, что я профессор Серебряков, что она всю жизнь надеялась на что-то во мне, но ничего нет, я пустое место, профессор Серебряков, я это услышал и не взорвался, потому что в её словах была боль, истинная боль, которую я почувствовал»[130].
В повести мимоходом сказано об участии Геннадия в Великой Отечественной войне и о его ранении под Ленинградом. В этой мимоходности заключена выразительная примета времени: вплоть до 1970 года фронтовики не очень-то выделялись властью из общего ряда, да и само население не было склонно ставить знак равенства между фронтовиком и героем. Лишь четверть века отделяла Победу от времени действия повести, фронтовики были ещё молоды, и их было много: ведь воевали миллионы. И лишь в 1970-е годы власть стала настойчиво прославлять участников войны, на всю страну зазвучали песни «Фронтовики, наденьте ордена» и «День Победы».
«У тебя, значит, Красная Звезда и медали в два наката, — нормально!»[131] Эту фразу из романа Трифонова «Студенты» его первые читатели понимали без комментариев: будущий студент награждён боевым орденом Красной Звезды, а медалей на его груди так много, что их пришлось размещать в два ряда. Не упускает автор «Студентов» и такую деталь: один из героев романа, бывший командир торпедного катера лейтенант Пётр Лагоденко, имеет пять наград. И тот, кто прошёл войну, без дополнительных пояснений понимал, какими именно наградами мог быть отмечен лейтенант флота. Всем военнослужащим, начиная с 1943 года, в обязательном порядке полагалось носить в будние дни орденские планки, а по праздникам — сами награды. В те первые послевоенные годы люди ещё умели разбираться в наградах, по орденским ленточкам безошибочно определяя весь набор боевых орденов и медалей того или иного ветерана. Однако к середине 1950-х лишь единицы из них носили орденские планки на штатском пиджаке.
Я носил ордена.
После — планки носил.
После — просто следы этих планок носил,
А потом гимнастёрку до дыр износил.
И надел заурядный пиджак [132].
Итак, в «Предварительных итогах» нет никаких подробностей ни об участии Геннадия в войне, ни о его наградах, если таковые были. Когда Геннадий вернулся с фронта, им овладела прежде неведомая жажда жизни, и первые послевоенные годы он «хватал и грабастал жизнь в весёлых послевоенных вузах»[133]. Именно этой жаждой жизни он объяснял себе свою первую женитьбу, оказавшуюся неудачной. Впрочем, и его второй брак нельзя назвать счастливым. У Геннадия и Риты есть сын Кирилл, но у них нет семьи.
Их роскошная по советским меркам кооперативная квартира — это территория совместного проживания трёх эгоистов. Рита не работает последние пять лет и в это время ведёт фактически паразитический образ жизни. Быть может, она решила посвятить свою жизнь мужу и, отказавшись от собственной карьеры, создать ему идеальные условия для творчества? Быть может, ею овладели демоны тщеславия, заставившие её забыть о работе ради обеспечения резкого карьерного взлёта мужа? Увы, на эти вопросы приходится дать отрицательный ответ. Несмотря на обилие свободного времени, Рита не занимается домашним хозяйством, перекладывая бремя своих забот на домработницу. Трифонов подчёркивает, что в семье Геннадия и Риты домработница была всегда. Примечательно то, что Рита всегда ухитрялась конфликтовать с помощницами по хозяйству. Одна домработница сменяла другую, и Геннадию хотелось дать объявление, что в этом доме всегда нужна помощница.
Впрочем, домработница Нюра — по официальным документам Анна Федосеевна — задержалась дольше других. «Было Нюре всего тридцать два, но выглядела она лет на сорок пять: в волосах седина, лицо опавшее, зубов нет и почти глухая»[134]. Её отец и брат погибли во время войны, мать умерла от голода, и сама Нюра пережила голод и в войну, и в первые послевоенные годы. Именно эта женщина и скрепляла дом, поддерживая у его обитателей иллюзию общности. Ушла Нюра — всё распалось. В последние несколько лет дела Геннадия Сергеевича шли не лучшим образом, Рита по-прежнему не работала, сын окончил школу, поступил в институт — и в семье часто не было денег на зарплату Нюре. С ней решили расстаться, тогда домработница заявила, что готова работать бесплатно, пока не появятся деньги. Но Нюра серьёзно заболела, долго лечилась в больнице и уже не могла полноценно исполнять свои обязанности. Более того, она сама теперь нуждалась в уходе. У Нюры обнаружилась шизофрения, и Геннадий с Ритой не захотели забирать её из больницы. Нюре, проработавшей у них десять лет и фактически вырастившей их сына, негде было жить после выписки из больницы. Судя по всему, Нюра покинула родную деревню в возрасте четырнадцати лет и до появления у Геннадия и Риты в течение восьми лет работала «по домам». Она надеялась со временем получить право на постоянную жилплощадь в Москве, однако механизм обретения этой жилплощади был скрыт за семью печатями. Хотя, нанимая Нюру, Рита заключила с ней официальный договор, соответствующим образом оформленный в групкоме домашних работниц, Нюра так и не стала москвичкой: восемнадцать лет работы «по домам» не позволили ей получить хотя бы комнату в коммунальной квартире. Государство не дало ей ничего, кроме мизерной пенсии по инвалидности. Однако даже эту тридцатирублёвую пенсию по существующему закону могли отобрать, если бы стало известно, что Нюра работает и получает зарплату.