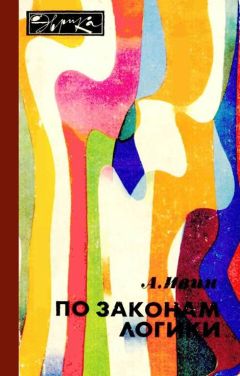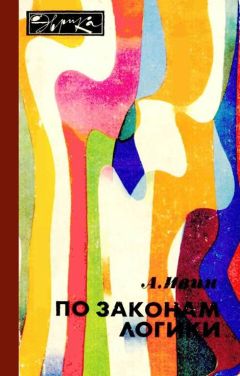Семен Экштут - Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного
Будущего нет ни у Дмитриева, ни у системы. Об её обречённости свидетельствует такой немаловажный факт: в Институт нефтяной и газовой аппаратуры с мудрёным названием ГИНЕГА, в котором служил Дмитриев, можно было попасть только по блату. Ни опыт работы, ни деловые качества не играли практически никакой роли. Только анкетные данные и наличие у претендента соответствующих связей. Вакансии держались только для своих и замещались только своими. Сам Дмитриев никогда бы не попал в институт, если бы не настойчивые хлопоты его тестя Ивана Васильевича Лукьянова: «…если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову. А потом даже поехал к Прусакову сам на казённой машине. Прусаков держал это место для кого-то другого, но Иван Васильевич нажал и Прусаков согласился»[121].
Именно с устройством на работу был связан очень важный нравственный конфликт в жизни Дмитриева. Это место хотел получить Лёвка Бубрик, друг детства, дальний родственник и однокашник Дмитриева. Казалось, что именно у Бубрика есть все данные, чтобы занять это место. «Сразу после института Лёвка поехал в Башкирию и проработал там три года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории»[122]. После возвращения в Москву Лёвка Бубрик долго не мог найти работу. Первым читателям повести и без каких-либо дополнительных авторских комментариев было ясно, что анкету Бубрика нельзя было назвать безукоризненной. Именно из-за этой анкеты он и поехал работать по распределению в Башкирию, а не попытался остаться в Москве, как годом раньше это сделал Дмитриев. Были ли родственники Бубрика репрессированы, или же кадровиков не устраивала его фамилия — это не суть важно. Существенно другое: без посторонней помощи такой человек не мог начать в столице новый виток своей жизни. Первоначально тесть Дмитриева намеревался похлопотать именно за Бубрика, но после того, как посетил ГИНЕГА, понял, что институт идеально подойдёт его собственному зятю. Работая в лаборатории газового завода, Дмитриев получал 130 рублей в месяц и тратил три часа на дорогу. Под нажимом жены Лены Дмитриев после трёх дней мучительных раздумий решил сам занять это место, прекрасно понимая, что его поступок вызовет нескрываемое осуждение со стороны близких родственников — матери и деда, пострадавшего во время репрессий. В наши дни нравственная суть конфликта требует пояснений. Кому сегодня придёт в голову строго судить человека, использовавшего все имевшиеся у него ресурсы для того, чтобы занять хорошее место работы? Дело в том, что Лёвка Бубрик был не просто конкурент. Это был человек, поражённый в правах, и занять его место означало не дать подняться лежачему, лишить его открывшейся возможности встать на ноги и обрести новое качество. Для самого же Дмитриева переход на работу в ГИНЕГА сулил сугубо количественные изменения без очевидных перспектив служебного роста.
Существенным показателем нежизнеспособности системы было то, что решение простейшей повседневной задачи, будь то ремонт квартиры или естественное желание устроить дочку в хорошую школу, приобретение импортной тахты или покупка школьной формы — всё это не только требовало от человека подчас мобилизации всех сил и «расшибаемости в лепёшку»[123], но и ставило его перед непростым нравственным выбором. Поскольку в стране практически полностью отсутствовал легальный оборот строительных материалов, всякий, кто затевал ремонт, вынужден был обращаться к дельцам теневой экономики и нелегально приобретать у них материалы, украденные на стройке, то есть фактически вступал в конфликт с законом. Хронический дефицит более качественной импортной мебели или радиоаппаратуры заставлял давать взятки продавцам, чтобы они помогли приобрести нужный товар. Лена и Дмитриев дали продавцу в радиомагазине пятьдесят рублей (судя по всему, в дореформенном исчислении), и он отложил им радиоприёмник. Советские люди постоянно сталкивались с такими житейскими проблемами, и многие научились решать их без особых нравственных мучений, что отнюдь не исключало существование принципиальных граждан — резонёров, безусловно осуждавших подобные сделки с совестью. Именно к их числу относились сестра и мать Дмитриева. Однако и устройство Дмитриева на работу в институт, и предстоящий обмен — эти, в сущности, заурядные жизненные ситуации могли быть преодолены не путём выполнения всем хорошо известных правил, а лишь ценой нравственного конфликта поистине космического масштаба! Вот как Трифонов описывает переживания Дмитриева, связанные с переходом на работу в ГИНЕГА, когда он перешёл дорогу Лёвке Бубрику: «Три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чём нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки»[124]. В повседневной жизни приходилось делать сложнейший нравственный выбор, вовлекая в процесс принятия решения множество людей и порождая между этими людьми новые нравственные конфликты. Все эти проблемы были присущи именно советскому человеку. В условиях нормально функционирующей экономики ни о чём подобном просто не может быть и речи!
У советского человека, получившего высшее образование и не принадлежавшего к номенклатурной среде, был очень ограниченный веер возможностей. Чтобы сделать заметный скачок по карьерной лестнице, Дмитриеву нужно было защитить диссертацию и стать кандидатом наук. Жена Лена очень хотела, чтобы её муж стал кандидатом, но у него не было для этого необходимого упорства, и он уже через полгода сошёл с дистанции. Лена очень скоро поняла это и отказалась от этой идеи. И хотя в конце 1960-х годов авторитет обладателей учёных степеней и званий был очень высок, ни у Трифонова, ни у его героев не было по этому поводу никаких иллюзий. Для них было очевидно, что обладателям учёных степеней фактически платят весьма немалые по тем временам деньги не за их высокую квалификацию, а за сам факт наличия учёной степени. И никого не интересовало, каким способом эта степень получена. Грубо говоря, степень можно было просто высидеть. «Дмитриев получал тогда, в лаборатории, сто тридцать, а его институтский знакомец, однокурсник — серый малый, но большой трудяга, хитрый Митрий, который во всём себе отказывал и даже не женился до поры, — получал вдвое больше потому, что высидел свинцовым задом диссертацию»[125]. Кандидатскую надбавку платили, руководствуясь формальным критерием, а не за реальный труд и не за реальный вклад. Получив вожделенную учёную степень, её обладатель фактически становился владельцем пожизненной ренты, которую никто не мог у него отнять, разумеется, если её обладатель не вступал в откровенную конфронтацию с властью. Трифонов излагает эту истину не в лоб, не прямолинейно. Он пишет, что после того, как Дмитриев отказался от идеи писать диссертацию и стал говорить, что «лучше честно получать сто тридцать целковых, чем мучиться, надрывать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь тоже так считала и презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдохами»[126]. Вкладывая такие рассуждения в уста Лены Дмитриевой, которую мать и сестра мужа постоянно обвиняют в мещанстве, автор повести защищает эти рассуждения от возможных цензурных нападок. Что взять с мещанки?
Глава 5
ПЕРЕВОДЯ «ЗОЛОТОЙ КОЛОКОЛЬЧИК»
Уже в конце 1960-х годов, когда советская власть была очень крепка и казалась незыблемой, а иллюзии шестидесятников ещё не подверглись эрозии и не вступили в непримиримый конфликт с действительностью, Юрий Валентинович Трифонов фактически показал нежизнеспособность системы: точно диагностировал тяжёлые заболевания системы и её летальный исход. Если в «Обмене» это было продемонстрировано на примере интеллигенции технической, то в повести «Предварительные итоги» (1970) — на примере интеллигенции творческой. Последовательно рассматривая различные группы образованных горожан, Трифонов, никого не осуждая, вновь и вновь пытается понять общество, в котором живёт.
«В начале мая ударила тропическая жара, жизнь в городе сделалась невыносимой, номер накалялся с одиннадцати часов и не остывал до рассвета, у меня начались одышки, головокружения, одна ночь была ужасной, и я, промучившись эту ночь бессонницей, стеснением в груди и страхом смерти, к утру смалодушничал и позвонил в Москву»[127]. Страх смерти испытал 48-летний переводчик Геннадий, от лица которого и ведётся повествование. Пережитый ночью страх заставляет его подвести итоги своей жизни. Подведение итогов происходит в разгар работы над переводом поэмы «Золотой колокольчик». Геннадий уже два месяца живёт в Ашхабаде и переводит с подстрочника огромную поэму туркменского поэта Мансура, своего друга, занимающего какой-то важный пост, скорее всего, в руководстве республиканского Министерства культуры или Союза писателей республики. Если у переводчика в повести наличествует только имя (лишь дважды его называют Геннадием Сергеевичем), то у туркменского поэта наличествуют имя и отчество. Кроме того, у Мансура Гельдыевича есть персональный автомобиль «ЗИМ», широчайшие связи и возможность устроить страдающего от жары Геннадия на пустующую дачу работников культуры в горном посёлке Тохире, что в шестидесяти километрах от города.