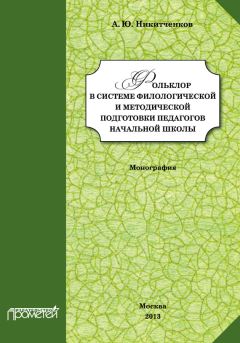Жан Старобинский - Материя идей
Я добавил бы еще одну проблему: история идей предполагает наличие книг, но нам приходится заметить, что будущее книги не гарантировано и историки послезавтрашнего дня рискуют оказаться в нелегком положении, не имея в своем распоряжении другого материала, кроме кучи отрывочных текстов, производимых нашими сверхактивными машинами. Эти машины умеют записывать, передавать информацию, но умеют ли они ее хранить? Они берут на себя роль энциклопедий — но насколько они сами долговечны? Это ведь не бумажные регистры, они подвержены действию токов. Я склонен видеть в таком развитии один из аспектов более общего перелома… Хотелось бы, чтобы это оказалось не более чем фантазмом.
Но вы задали мне еще один вопрос, от которого я не хочу уклоняться. Историки философии с давних пор старались описывать смену «систем» и «доктрин», создаваемых «мэтрами». Недавно возникшие понятия «дискурса» и «парадигмы» более тонки. Они позволяют распознавать «экзистенциальные» установки, стили мышления. Раньше их называли типами «чувствительности», «духом эпохи» или же «школами». Но я не могу согласиться с Фуко, когда он считает, что история идей отжила свое. Выходит, стоит принять вслед за ним понятие дискурса, и понятие идеи сразу устаревает? На мой взгляд, интеллектуальная история не менее законна, чем история социальная или экономическая, с которыми она всегда была связана. «Идея» — это единица смысла, способная артикулироваться с другими единицами смысла. Я предпочитаю такую историю, которая рассматривает идеи в различных контекстах, не забывая о тех скрытых смыслах, которые соответствуют ей в конкретных применениях, задаваемых говорящими. Вообще же, время споров о методе прошло. Пора получать результаты.
Излюбленным предметом истории идей были их «зарождение», изменение и соперничество в мировом масштабе: рождение религий или форм политического режима, перемены в представлениях о мире, борьба между традиционным авторитетом и оспаривающей его мыслью. Классической областью истории идей служит период, который в Западной Европе простирается от Петрарки до романтизма. Эта история прослеживает, как утверждаются индивидуализм, новая картина вселенной, принцип независимости человеческого разума, противостоящий абсолютной власти религиозных догматов. Она принимает во внимание и реакции, вызванные промышленным переворотом… Таким было поле исследований немецкой Geistesgeschichte[10], у Дильтея, Кассирера, Блюменберга[11].
С. З. Не соотносится ли различие абстрактных единиц смысла («идей») и более сложных, то есть более конкретных единиц («дискурсов»), — с тем, как различаются предметы аналитической и «континентальной» философии?
Ж. С. Ваше сопоставление очень верно. Достаточно посмотреть, как Лавджой в одной из своих работ разлагает идею «природы» на два десятка unit-ideas[12]. Так он стремится аналитически выделить относительно чистые интеллектуальные единицы. Шпитцер в своей критике взял в качестве примера идею «мировой гармонии», опираясь на лексический ряд Stimme, Stimmung и т. п., а также соответствующие термины в других языках. По-немецки эти слова изначально применяются к голосу и особенно к настройке музыкальных инструментов. По мысли Шпитцера, конкретные единицы смысла содержатся в языке. Подобно Хайдеггеру, он чутко вслушивался в этимологию слов, но в отличие от Хайдеггера не отдавал никакого преимущества немецкому языку или же тому, что кажется корнем слова. Для него этимон являет нам не скрытую истину, а лишь первый этап мышления. Он считал, что переход на английский помог ему сделать свою работу точнее и отказаться от заманчивых, но не очень строгих эффектов, которых позволяет добиваться немецкий язык.
С. З. Как известно, термин «идея» — платоновского происхождения, и с такой точки зрения само понятие «истории идей» парадоксально: у платоновских идей нет никакой истории, это неизменно пребывающие сущности. Разумеется, мы употребляем это слово в другом значении; но, может быть, платоновский смысл «идеи» все же способен помочь нам в понимании истории идей? Может быть, незыблемость идей не менее важна, чем их исторические изменения? В подтверждение такой догадки можно привести исследования Курциуса по топологии европейской культуры или же Варбурга по иконологии[13]. Некоторые теоретики литературы, например русские формалисты, также полагали, что историческое начало в произведении (не только литературном) заключается в остатках былой культуры, в том, что не усваивается структурой и подрывает ее целостность. Существенно ли такое историческое или же диалектическое взаимодействие для истории идей?
Ж. С. Это хорошие вопросы, заслуживающие того, чтобы их поставить. Я согласен, что слово «идея» слишком многозначно и дает повод для недоразумений. Идея — это не «сущность» и тем более не «модель». Если принять то значение, которое слово «идея» имело в платоновской мысли, то, конечно, идеи неизменны. Они подлежат созерцанию («теории»), но не исторической разработке, которой мы занимаемся сегодня. Если бы здесь возникало недоразумение, то я предпочел бы понятие «интеллектуальная история». Технологии, порождаемые наукой, привели к крупномасштабной трансформации мира, хозяйства и общества. Я один из тех, кто считает необходимым задуматься над этим новым положением дел. Отчасти (но только отчасти!) наш долг в том, чтобы реконструировать путь, который привел нас к нашему нынешнему состоянию. Такой крупный историк идей, как Александр Койре, усматривал связь между мыслью Платона и тем почтением к математике, которое восторжествовало в науке после Галилея. Мысль Койре не включала в себя тезисы Платона и его теорию идей, но он признавал за ними важную роль в процессе, которым одушевлялись интеллектуальные и материальные перемены раннего Нового времени, определившие наше собственное бытие.
Структурализм в литературе, если правильно его понимать, ведет к более конкретным выводам, в более узких рамках. Он вслушивается в смыслонесущие отношения, устанавливает их, соблюдая крайнюю сдержанность в обобщениях и экстраполяциях. Мне симпатичны структуральные прочтения. Хоть я и склонен искать свои ориентиры в философии истории, но по-настоящему в своей стихии я себя чувствую тогда, когда нахожу объекты, которые могу подвергнуть тщательному, ничего не упускающему толкованию: тексты, произведения графики, музыкальные произведения. Однако я хочу не просто начертить их план — я хочу распахнуть окна и выглянуть наружу. Лучшим определением некоторых моих работ могло бы быть такое: документально-сравнительная история структур и симптоматичных мотивов. (Некоторые мои немецкие читатели, несмотря на ряд различий, сближали мои работы со своей Stoffgeschichte и Problemgeschichte[14]). Я стараюсь не пренебрегать ни детальным описанием, ни сравнением. Но я воздерживаюсь от теоретизации в духе, например, Брюнетьера[15], который в своих первых работах, стремясь к научности, пытался устанавливать законы развития литературных жанров. Я не пытаюсь строить классификации, как это делал Курциус. Я стараюсь искать такие пути, где бы сочетались эвристическая эффективность и своего рода мелодическая изобретательность.
Курциус, составляя свой грандиозный репертуар топосов, исследовал главным образом повторение одного и того же — то, как стабильно сохраняются или даже распространяются основополагающие мотивы поэтики и риторики. Я нередко обращался к его книге. Но я полагаю, что ее нужно дополнить пониманием различий и трансформаций. Например, когда я исследовал такой мотив (или тип, форму), как распорядок дня, то мне было мало одних лишь топосов, которые столь часто встречаются в классической традиции и особенно в «пасторальной» поэзии, живописи и музыке: утро, полдень, вечер, ночь. Я не хотел ограничиваться одними лишь данными, имеющими эстетический статус. Мне казалось необходимым учитывать также религиозные предписания, столь важные в иудаизме, христианстве и исламе, в силу которых известные моменты суток отмечаются молитвами. Долго время в сутках четко разделялось на сакральное и профанное. Петрарка сравнивает день делового человека и день человека созерцательного. Другие временные ритуалы были связаны с первыми театральными представлениями. Во Франции на протяжении двух веков от авторов трагедий требовали соблюдать единство времени, ограничивая действие одним днем. Гораций писал о том, как проводит свой день римский гражданин. Жанры литературного портрета и автопортрета уже в античности включали в себя рассказ о распорядке дня описываемого лица. С помощью того же приема обвиняемые в суде и их адвокаты доказывали свое добропорядочное поведение. Я продемонстрировал примеры такой апологетики, часто принимающей форму «итеративного» рассказа, у Ронсара и Руссо. В схему дневного распорядка особенно хорошо включаются учебные и трудовые занятия, когда авторы пытаются их описывать: учебный день Пантагрюэля у Рабле (это одновременно и рассказ, и программный образец), день на сборе винограда в «Новой Элоизе» Руссо, день воина, проходящий либо в упражнениях, либо в битве (он занимал центральное место уже в «Илиаде»). Известно, с каким мастерством Гоголь, Гончаров, Толстой, Чехов, Солженицын заключали своих персонажей в рамку «одного дня» — реального или вымышленного. Следует вспомнить и день 6 июня 1906 года, то есть «Улисс» Джойса, схему которого затем множество раз повторяли. В великолепной «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф действие, словно вторя Джойсу, разворачивается час за часом на протяжении одного дня, под бой курантов Биг-Бена.