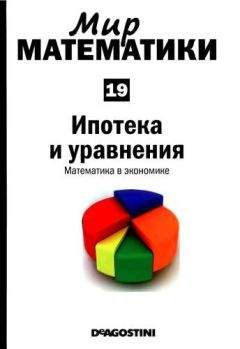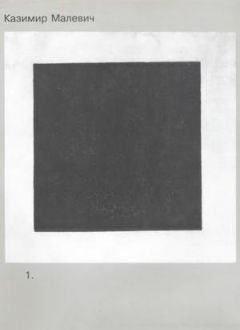Михаил Бахтин - Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927
11. Что бы конкретно ни имел в виду М.М.Б., говоря, что Гончаров вышел из нездоровой семьи, речь, по-видимому, идет о версии, получившей распространение в начале 10-х гг. XX в. как в кругах окололитературных, так и литературных. В литературных кругах версия утвердилась стараниями», прежде всего, того же Е. А. Ляцкого (см. прим. 10), а потом и С. А. Венгерова (см. ниже). Весьма шатким основанием, на котором версия утвердилась в литературе о Гончарове, стали, главным образом, воспоминания Александра Николаевича Гончарова (1843–1907), племянника автора «Обыкновенной истории», сына старшего брата писателя. Воспоминания были обретены и обнародованы симбирским собирателем М. Ф. Суперанским (см.: «Ив. Ал. Гончаров и новые материалы для его биографии»; ж. Вестник Европы, № 11, 1908). Содержащаяся в этих воспоминаниях-записках последовательно недоброжелательная и даже не пытающаяся быть ни объективной, ни основательной информация как о родителях писателя, так и о брате (отце мемуариста) и о сестре писателя, некритически воспринятая в т. ч. и историками литературы, породила целый ряд посвященных семье Гончарова абзацев, более напоминающих неловкие прозаические вариации на известные темы комедии «Горе от ума», чем изложение сколько-нибудь серьезных биографических сведений (см. принадл. Ляцкому главу о Гончарове в многотомной «Истории русской литературы XIX века» под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского — М., 1911, т. III, с. 252–277; см. с. 137, 138 и далее его же монографии о писателе, ук. в прим. 10; см. также статью С. А. Венгерова «Гончаров» в кн.: Новый энциклопедический словарь, т. XIV, СПб., Брокгауз-Ефрон, 1913, с. 163–171). Рядом и в сопоставлении со сказанным ex cathedra, т. е. с тем в т. ч. фрагментом словарной статьи Венгерова, который содержит информацию о семье Гончарова и о самом Гончарове, сказанное (буквально сказанное) Бахтиным в неофициальной обстановке домашней лекции воспринимается как сказанное и сдержанно и почти корректно. Именно почти, ибо принцип достаточного основания представляется все же нарушенным, а версия — поддержанной. Все это, конечно, при условии, что сказано было именно и точно так, как записано. Когда>речь идет о такого рода утверждениях, становится особенно досадно, что перед нами запись и только запись, при этом запись не публичного выступления, а устной лекции-беседы в предельно домашней неофициальной обстановке, и что это именно мы, публикаторы, издатели делаем сказанное двоим-троим достоянием всеобщим, то есть предаем гласности. В каком-то смысле это хуже обнародования частной переписки, так как в случае опубликования чьего-либо письма есть все же абсолютная уверенность, что так и было написано, пусть всего лишь к кому-нибудь одному. В нашем же случае, в случае опубликования записей со слуха, всегда остается вопрос, так ли именно было сказано, как записано, не потеряны ли какие-то существенные оговорки. Особенно это существенно, когда речь идет о чьей-либо репутации. Утрата в письменной передаче всего одного слова, тем более интонации может быть чревата серьезными не только смысловыми, но и моральными последствиями, ответственность за которые ложится, прежде всего, на публикаторов, т. е. в данном случае и на автора этих комментариев.
109
12. Речь идет о Трегубове Николае Николаевиче, крестном отце Гончарова, его брата Николая и сестер; в своем биографическом очерке «На родине» писатель называет его Якубовым и пишет о нем с любовью и благодарностью; там же, в очерке, описаны и некоторые странности Якубова. Ср. о Якубове в ук. в прим. 10 статье Иннокентия Анненского (с. 259 ук. там издания).
110
13. См. статью Гончарова «Лучше поздно чем никогда». Примерно в это время, м. б. годом или полутора годами раньше (лекция о Гончарове читалась, как и лекции о Тургеневе, либо в конце 1923 г., либо в самом начале 1924 г.), Бахтин упоминает эту статью Гончарова, также без заглавия, в рукописи АГ, когда говорит об авторских исповедях Гоголя и Гончарова, точнее, говорит о Гоголе и Гончарове как создателях авторских исповедей (ЭСТ, 9-10). Можно считать более чем вероятным, что сказанное Бахтиным о русской литературе в этих домашних лекциях в каком-то виде должно было, могло войти в ненаписанную Бахтиным главу АГ, от которой сохранился только заголовок: «Проблема автора и героя в русской литературе» (ЭСТ, 384).
111
14. Значение, ценность, фрагмента «Обломов» в том, прежде всего, что перед нами — еще одно бахтинское прочтение художественного текста, по-бахтински и вдохновенное и глубокое, когда вдруг исчезает все внешнее (или становится прозрачным, проницаемым), а внутреннее, невидимое обнаруживается несомненно и ярко. При всей конспективности, пунктирности текста перед нами еще один пример выявления «первого глубинного плана образов (ядра их)», отделения этого глубинного плана от второго и третьего, переходящего в орнамент (см. прочтение трагедий Шекспира в Доп.: т. 5. 85–87). Не случайно из всех привычных атрибутов физического оседания (колоритной фигуры Захара с лежанкой и ворчанием, дивана, тарелок с остатками пищи, пожелтевших страниц давно раскрытых, но так и не прочитанных книг, незаконченных проектов и пр.) оставлен, спасен Бахтиным, лишь халат, спасен и превращен из символа гибели героя в символ его спасения. Остальное — орнамент (см. ук. страницы Доп.). В халате же важнейшим оказывается то, что «не чувствуешь его на себе» (см.: И. А. Гончаров. Обломов. Лит. пам., 1987, с. 8; в первой редакции: «тело не чувствует его на себе»), иначе говоря, не замечаешь его, а значит и не воспринимаешь как то, что мешает. А все, что не мешает жить внутренней жизнью, спасает: спасает внутренние границы «я». «Кто сумел принести халат Обломову, тот спас его», — это произнесено власть имеющим, и именно таким предстает молодой Бахтин в качестве автора фрагмента «Обломов». После этого бахтинского фрагмента, перечитывая роман Гончарова, «точно читаешь новое, никогда не виданное произведение» (слова Белинского по поводу повторного чтения «Мертвых душ»: В. Г. Белинский. Собр. соч. в 9 т. М., 1976–1982, т. 5, с. 53), будь то фраза: «Его окружали теперь такие простые, добрые, любящие лица, которые все согласились своим существованием подпереть его жизнь, помогать ему не замечать ее, не чувствовать» (ук. выше изд., с. 366); или другая: «Вглядываясь, вдумываясь в свой быт и все более и более обживаясь в нем, он, наконец, решил, что ему некуда больше идти, нечего искать, что идеал его жизни осуществился <…>» (там же, с 367); или третья: «Он торжествовал внутренно, что ушел от ее (жизни, — комм.) докучливых, мучительных требований и гроз, из-под того горизонта, под которым блещут молнии великих радостей и раздаются внезапные удары великих скорбей, где играют ложные надежды и великолепные призраки счастья, где гложет и снедает человека собственная мысль и убивает страсть, где падает и торжествует ум, где сражается в непрестанной битве человек и уходит с поля битвы истерзанный и все недовольный и ненасытимый» (там же). Иначе воспринимается и выражение «обломовский Платон» (с. 368). Курсив в цитатах — комментатора.
Однако и значение и ценность этого фрагмента (пусть это только гипотеза одного из тех, кто знал М.М.Б. лишь в последние, преклонные его годы) еще и в глубоко личном звучании едва ли не каждой фразы этого удивительного фрагмента. Чтобы стало хоть немного понятно, о чем идет речь, приведем только один эпизод записанной на пленку беседы с М.М.Б. (ему в это время — 77 лет) Виктора Дмитриевича Дувакина (см. Беседы. 213–214; курсив комментатора):
Д: А Вы не хлопотали о снятии «минуса»? Или…
Б: Нет, не хлопотал нисколько. Это было в то время абсолютно бесполезно. Вообще я враг вот этой всякой…
Д: Активности…
Б: … активности — и переписки, бумажной активности. Да и реабилитации я не получал. Я не подавал на реабилитацию.
Д: Да что Вы?!
Б: С какой стати? Я считал, что вообще я, собственно, под судом и следствием и не был, потому что нельзя было назвать ни следствием, ни судом то, что проделывали тогда. Вот. Все ж было так…
Д: Нет, ну все-таки Вам надо было добиться отмены решения…
Б: Не-ет, ну зачем мне это было — добиваться? Зачем я буду добиваться? Почти все, которые были арестованы вот вместе со мной, по моему делу, — все они были реабилитированы, а я не подавал. Мне это и не нужно совершенно. Абсолютно. Для чего это?
Рискнем сказать, что во фрагменте «Обломов», начиная со слов «Он не хочет съезжать с квартиры…» и кончая словами «… это люди, живущие не внутренней, а внешней жизнью» (в середине этого периода — слова: «Обломов хочет, чтобы внешняя жизнь не мешала внутреннему самодовлению»), — всё проникнуто живыми намеками на какие-то очень существенные моменты внутренней биографии самого Бахтина.
В ЗМ Обломов упомянут во фрагменте «Война и мир» при анализе образа Пьера (с. 242) и в теме «Сологуб», где Бахтин говорит о детскости Обломова, Платона Каратаева и героев Сологуба (с. 315).