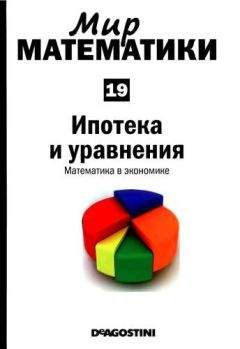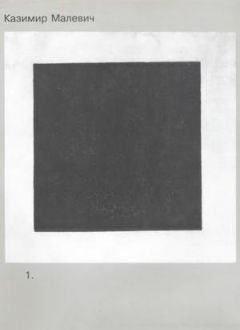Михаил Бахтин - Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927
75
157*. Фраза снята в ППД.
76
159*. Последующие четыре абзаца — чрезвычайно насыщенная концовка основного текста книги — отсутствуют в ППД; они заменены другой концовкой, формулирующей отшлифованную во второй редакции книги сложно дифференцированную теорию диалога (ППД, 357–358). О значении социально — экзистенциальных мотивов, венчающих книгу на этих трех последних исключенных из второго издания страницах, см. выше, в преамбуле к настоящему комментарию, с. 454 и сл. Этими страницами М.М.Б. продолжал дорожить и будучи уже автором ППД; в разговорах он упоминал концовку первой книги, говоря, что там «кое-что было», но он не сумел ее переработать — «может быть, когда-нибудь, в следующем издании…» Но подготовкой следующего (и последнего) прижизненного издания (М., Художественная литература, 1972) он уже не занимался. В экземпляре ППД, подаренном автором составителю настоящего комментария (дарственная надпись от 26.IX.63), исключенные страницы обозначены рукой автора карандашной галочкой на том месте, где они должны находиться (на с. 357 ППД, рядом со звездочкой), и к галочке сделана сноска (тоже карандашом): «1 изд. стр. 239–241».
77
160*. Свернутая в этом абзаце программа «тематического анализа» поэмы «Великий инквизитор» с новой (диалогической) точки зрения не была реализована, но тема Великого инквизитора присутствует в недавно опубликованных архивных текстах М.М.Б. 40-х гг., подготавливавших вторую редакцию книги. В комментарии к одному из них И. Л. Попова высказала гипотезу, что не только «раблезианская» проблематика, вызревшая в 30-е гг. в занятиях теорией романа и Рабле, внедрилась в эту вторую редакцию и преобразовала книгу, но и сама проблематика эта могла иметь своим истоком изучение апокрифических и неканонических мотивов и жанров, отразившихся в сюжете поэмы Ивана Карамазова, а также в его разговоре с чортом («Хождение Богородицы по мукам», легенды о возвращении и непризнании Христа): «В этом смысле книга М.М.Б. о Рабле и его теория романа вырастают из одного эпизода книги о Достоевском, из анализа "глубокой существенности диалогической формы "Легенды о Великом инквизиторе", уходящей своими корнями в низовую (смеховую) литературу средневековья и Ренессанса» (т. 5, 460–461). Кстати еще раз вспомнить здесь и о том, что мы достоверно не знаем, какой исторический фон незримо стоял за теоретическими построениями ПТД, о чем автор сразу предупредил на первой странице книги.
78
161*. Целая программа исследования источников диалога Достоевского в глубинах всемирной словесности также свернута в этом абзаце. Невозможно не обратить внимания на существенное отличие намеченной здесь картины от концепции будущей IV-й главы ППД. Два момента этой картины — столь решительное отрицание значения диалога Платона как «просто» лежавшего вне сфюры интересов Достоевского (что фактически верно) и утверждение значения библейского и евангельского диалога, особенно диалога Иова — не совпадают с исторической концепцией ППД, где, напротив, выдвинут сократический диалог как первостепенный жанровый источник, о библейском же и евангельском диалоге специального разговора нет (отмечаются лишь жанры раннехристианской литературы как находящиеся в орбите влияния античной мениппеи). Вообще происходит сдвиг в понимании жанровых традиций, отмеченный в черновой записи начала 40-х гг.: «Достоевский: от готового христианства к эллинистическому прехристианству» (АБ). Решительное непризнание платоновского источника в ПТД особенно интригует. Здесь возможно влияние оценки роли Платона у Ницше, который, с одной стороны, заметил, что, подобно трагедии, диалог впитал в себя все прежние формы искусства, став «результатом смешения всех наличных стилей и форм» (мысль, унаследованная романной теорией М.М.Б.), но в то же время уподобил диалог и выросший из него роман «возведенной в бесконечность эзоповской басне, где поэзия живет в подобном же отношении подчинения к диалектической философии, в каком долгие века жила философия к богословию, как ancilla. Таково было новое положение поэзии, в которое насильственно поставил ее Платон под давлением демонического Сократа. Здесь философская мысль перерастает искусство и принуждает его более тесно прижаться к стволу диалектики…» (Фридрих Ницше. Сочинения в двух томах, 1990, т. 1, с. 110). Возможно воздействие этого взгляда на столь радикальное отрицание значения платоновского диалога для Достоевского в ПТД с такой мотивировкой: «ибо диалог Достоевского вовсе не чисто познавательный, философский диалог». Характерно, что А. 3. Штейнберг, дальше всех пошедший по пути «философской монологизации» Достоевского, свою тему «Достоевский как философ» построил — как в докладах 1921 г. в Воль-филе, так и в написанной на их основе книге 1923 г. — на сближении Достоевского с Платоном («Философия Канта не противоречит философии Зосимы: оба они, как и Достоевский, платоники»: А. З. Штейнберг. Система свободы Достоевского, с. 30), а возражавший Штейнбергу в Вольфиле А. А. Мейер заметил в своем выступлении (см. выше, примеч. 46*): «Я думаю, что если говорит о Достоевском несколько человек, то найдется что-нибудь общее, и Платона они могут вспомнить. Не знаю, в какой мере это важно…» Об отличии «мира идей у Достоевского» от платоновского в книге «Миросозерцание Достоевского», вышедшей в том же году, что и книга Штейнберга, писал Н. А. Бердяев: «Мир идей у Достоевского совсем особый, небывало оригинальный мир, очень отличный от мира идей Платона. Идеи Достоевского — не прообразы бытия, не первичные сущности и уж, конечно, не нормы, а судьбы бытия, первичные огненные энергии. Но не менее Платона признавал он определяющее значение идей» (Н. А. Бердяев. Миросозерцание Достоевского. Paris, 1968, с. 8). В дальнейшем, в работах М.М.Б. по теории романа и в ППД, в оценке сократического диалога как «синкретического философско-художественного жанра» (ППД, 150) меняется акцент: в нем отмечается «одновременное рождение научного понятия и нового художественно-прозаического романного образа» (ВЛЭ, 467), и акцент ложится на эту вторую сторону дела. Но другой стороной (помимо переоценки традиции диалога Платона) смены исторической картины в ППД была утрата того, что было сказано в первой книге о значении диалога Иова «и некоторых евангельских диалогов» (диалог из Евангелия от Марка, отрефлектированный М.М.Б. в выступлении 1925 г., цитированном выше, в примеч. 147*, здесь может быть примером). Можно думать, что об этих утраченных местах жалел автор ППД в позднейших разговорах (см. примеч. 159*). Но перестройка книги пошла в таком направлений, которое, вероятно, исключало простую «переработку» прежних тезисов и совмещение их с новым текстом. Независимо от него, однако, сказанное о платоновском и библейском диалоге в старой книге сохраняет самостоятельный убедительный интерес для читателей обеих книг М.М.Б. о Достоевском как вариант идеи автора об источниках диалога у Достоевского.
79
162*. Как и «Предисловие», «Заключение» к книге полностью заменено в ППД. В новое заключение в несколько измененной редакции перенесен фрагмент о «художественной воле» Достоевского, которая «порабощает» современную литературу, из последнего абзаца первой главы первой части ПТД (с. 42).
80
1*. «Что такое искусство?», статья-трактат, 1897–1898.
81
2*. Слово «всецело» комментирует Энн Шукман: обращая внимание на удельный вес размышления о двух путях религиозного мировоззрения Толстого, размышления, выбивающегося за социологически-марксистские рамки, кажется, жестко заданные здесь столь краткому тексту, и цитируя позднейшее возражение М.М.Б. Луначарскому (см. в настоящем комментарии выше), она спрашивает: не может ли быть воспринято это слово «всецело» здесь «с некоторой долей отчуждения, если не иронии?» (Rethinking Bakhtin, р. 147).
82
3*. Имеется в виду та же книга Б. М. Эйхенбаума. Полемический злободневный контекст «Семейного счастия» как ответ на «женский вопрос» и реакция на свежие книги П. Ж. Прудона «De la Justice dans la Revolution et dans l'Eglise» (1858) и Ж. Мишле «L'Amour» (1858) и «La Femme» (1859) — расшифрованы именно здесь: Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы, с. 344–363. Любопытно, что в своем известном памфлете на Бахтина М. Л. Гаспаров противопоставил его размашистому и научно не обеспеченному, на взгляд памфлетиста, теоретическому стилю именно этот кропотливый историко-литературный труд Эйхенбаума: «Бахтин признает, хотя и нехотя, заслуги Эйхенбаума, вскрывшего в вещах Толстого такие злободневные контексты, о которых все давно забыли. Но это хлопотливо, да и вряд ли нужно» (Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979, с. 112). В следующей своей работе, непосредственно последовавшей за статьями о Толстом, — книге (как она была задумана и писалась в начале 30-х гг. в Кустанае; см. комментарий в т. 3 настоящего Собрания) «Слово в романе» М.М.Б. вновь ссылается на книгу Эйхенбаума, переключая его наблюдения в плоскость своей теоретической проблематики: «Так, слово у Толстого отличается резкой внутренней диалогичностью, причем оно диалогизовано как в предмете, так и в кругозоре читателя, смысловые и экспрессивные особенности которого Толстой остро ощущает. Эти две линии диалогизации (в большинстве случаев полемически окрашенной) очень тесно сплетены в его стиле: слово у Толстого даже в самых "лирических" выражениях и в самых "эпических" описаниях созвучит и диссонирует (больше диссонирует) с различными моментами разноречивого социально-словесного сознания, опутывающего предмет, и в то же время полемически вторгается в предметный и ценностный кругозор читателя, стремясь поразить и разрушить апперцептивный фон его активного понимания. В этом отношении Толстой — наследник XVIII века, в особенности Руссо. Отсюда иногда происходит сужение того разноречивого социального сознания, с которым полемизирует Толстой, до сознания ближайшего современника, современника дня, а не эпохи, и вследствие этого и крайняя конкретизация диалогичности (почти всегда полемики). Поэтому-то диалогичность, столь отчетливо слышимая нами в экспрессивном облике его стиля, нуждается иногда в специальном историко-литературном комментарии: мы не знаем, с чем именно диссонирует или созвучен данный тон, а между тем это диссонирование или созвучание входит в задание стиля». Здесь — отсылка: «См. книгу: Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой, книга 1-я, Л., "Прибой", 1928, где имеется много соответствующего материала; например, вскрыт злободневный контекст "Семейного счастия"» (ВЛЭ, 96). Таким образом, можно видеть, что статьи М.М.Б. о Толстом, если и обособлены, как сказано выше, среди его работ, то все же не изолированы от общего бахтинского проблемного контекста; можно видеть на этом примере, как в статьях подготавливалась такая огромная тема творчества М.М.Б., как «слово в романе». При этом самый взгляд на слово и мир Толстого, названные в ПТД «монолитно монологическими», гибко расширяется в общетеоретическом бахтинском контексте; такая гибкая протеичность бахтинских суждений, их несовпадение в разных контекстах «с самими собой» — характернейшее и принципиальное свойство философско-филологического языка М.М.Б.