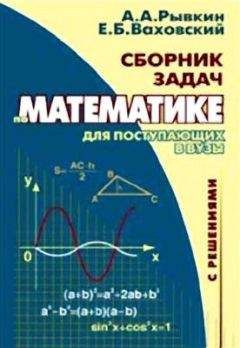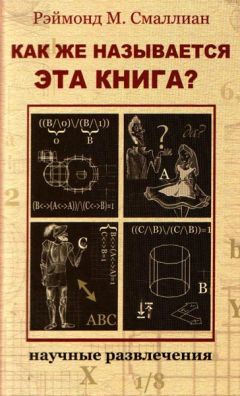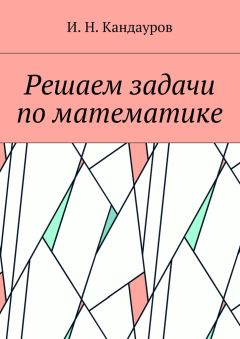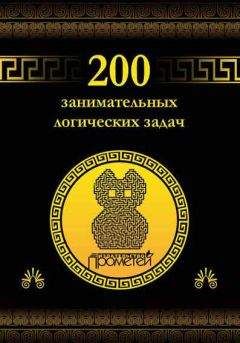Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
Черты мнимого эпического величия в этой сцене создаются собственно теми же приемами, что и в бурлескном искусстве, т. е. посредством очевидного контраста между возвышенным тоном и вульгарным предметом изображения. Но шутливый бурлеск никогда не заключал в себе столько сдержанного гнева и презрительной иронии.
Чтобы поддержать атмосферу героического и не разочаровать слушателей, нужно было хоть немного крови. Жестоки мирные буржуа. Обыватели, распаленные рассказом Пьера, твердо надеялись, что им „будет преподнесен хоть один труп“. И железная Фелисите тоже находила, что без крови „драма недостаточно эффектна“. Позднее будет и кровь. А пока пришлось удовлетвориться меньшим: „потрясающий эпизод с зеркалом“ должен довершить картину подвигов. В мэрии ружье Ругона, которое повстанец старался вырвать у него из рук, разрядилось, и шальная пуля разбила „лучшее в городе“ зеркало. А затем фантазия очевидцев прибавила подробность: пуля якобы задела глаз одного из мятежников. „Этот синяк, эта неожиданная рана удовлетворила публику. На какой щеке синяк?..“
Значение события, которое не было вначале прочувствовано во всей его силе, разрастается на глазах: „Оружие никогда не следует выпускать из рук, — ораторствует Пьер. — Я держал его вот этак, под мышкой левой руки. Вдруг оно стреляет и…“. Вся аудитория смотрела в рот Ругону».
Грану усиливает картину происшедшего. Он обычно не лгал, но в день сражения позволительно видеть вещи в драматическом свете. И он «увидел», что повстанец пытался убить Ругона. «Вы думаете? — бледнея, спросил Ругон». Но принял эту версию. И в окончательной редакции героический эпизод выглядит так: «Раздается выстрел, я слышу, как пуля проносится мимо уха и — паф!.. разбивает зеркало господина мэра».
«Несчастье, постигшее зеркало», внесло оттенки гротеска в «великолепную одиссею» и послужило для характеристики уже не столько спасителя Плассана, сколько спасенных. Смертельная опасность, якобы испытанная Пьером, и происшествие с зеркалом оказались уравнены в сознании потрясенных обывателей. Дырка в зеркале даже отвлекла «внимание этих господ от подвигов Ругона. Зеркало превращалось в живое существо, о нем толковали минут пятнадцать с восклицаниями сожаления и с горячим сочувствием, точно его ранили в сердце».
Зеркалу предстояло выступить в роли главного доказательства и засвидетельствовать битву в мэрии не только в глазах желтого салона, но и перед лицом целого города. Ибо Плассан проспал событие. И, пробудившись утром, остался в плену сновидений. Жители передавали друг другу, что над городом «во время сна пронеслась ужасная напасть, не коснувшись его», и слушали, «разинув рот, точно волшебную сказку», рассказ о том, что несколько тысяч разбойников заполнили ночью улицы, исчезнув «перед рассветом, будто армия призраков».
Буржуа, не чуждые новым веяниям, те самые, которые говорили рабочим «дружище», были смущены: им «стыдно было, что они проспали такую ночь». Но — проспали. И теперь сомневались, был ли переворот, покончивший с Республикой, было ли сражение? «А зеркало! Зеркало!» — отвечали им. До ночи множество людей перебывало в кабинете мэра. «Все, как вкопанные, останавливались перед зеркалом, в котором пуля пробила круглую дыру, окруженную лучеобразными трещинами, бормотали одну и ту же фразу: „Черт возьми, ну и пуля!“ И уходили убежденные».
В параллельных сценах, посвященных пребыванию враждующих братьев в захваченной мэрии, их психологические характеристики приобретают особенную ясность. Внимание Золя сосредоточено на тех чертах Ругона и Маккара, которые непосредственно скажутся на развитии сюжета, уже в ближайших эпизодах внесут в него новое движение и приблизят развязку романа
Пьер, оказавшись в кабинете мэра, испытывал сладостное волнение, как «при первом причастии»; он благоговейно обозревал выцветшие стены помещения, «пропитанного мелкими дрязгами, ничтожными заботами захолустного городишки»; он наслаждался запахом пыли и старых бумаг. Мэрия в глазах Пьера превращалась как бы в храм, а сам он становился «неким божеством».
Пока Пьер вдыхал в кабинете мэра аромат власти, Антуан, которого втолкнули в туалетную комнату мэра, распевал громовым голосом: «Ca ira!» («Аристократов на фонарь!»), заставляя содрогаться Ругона. Впрочем, пел он эту грозную песнь, лежа на мягкой кушетке мэра. Изысканная обстановка туалетной помогла Маккару успокоиться после ареста и уяснить свое отношение к Республике. Он сожалел, что ненависть к Ругонам, из-за которой он пристал к республиканцам, помешала ему приобрести такой вот уголок, где можно «тешить на досуге свои душевные и плотские пороки».
Честолюбие у Маккара меньше развито и власть интересует его не в такой степени, как Ругона. Каждому свое. Антуан согласился бы ограничиться «просто» деньгами. «Его презрение к Республике еще усилилось после того, как он сунул нос в склянки Гарсонне». Он испробовал все флаконы, все куски мыла, порошки, пудру, «но приятнее всего было вытираться полотенцем г-на мэра. Оно было мягкое и пушистое. Маккар погрузил в него мокрое лицо и блаженно вдохнул аромат богатства». Ощущения, которые испытывает Маккар, соприкоснувшийся с атмосферой изысканности и довольства, определяет и содержание весьма несложного психологического процесса, который в нем совершается.
Валяясь на диванах мэра, Маккар размышлял: «Нет, ему решительно надо было продать себя реакционерам». Настолько внутренне чужд республиканскому движению и так давно готов к любому предательству этот глубоко развращенный и примитивный человек, что реализация решения не представляет для него ни малейшего труда. Главной его заботой станет — не продешевить, когда железная Фелисите предложит ему за плату организовать провокацию: силами республиканцев еще раз попробовать «захватить» мэрию, чтобы укрепить репутацию Пьера как «спасителя города». «Клятва на форуме» Ругона и «Ca ira!» Маккара оказались явлениями равнозначными.
В «Карьере Ругонов» — романе о борьбе политической реакции с Республикой — роль второстепенных персонажей активна: они составляют среду; их поведение, их характеристики должны объяснить, почему Ругоны — «эти нищие с дурной репутацией сумели в конце концов создать вокруг себя все необходимые орудия своего будущего благополучия».
Карьера Ругонов поставлена в прямую связь с процессом все более явного поправения буржуазии после революции 1848 года и является, собственно, результатом этого процесса. В месяцы, предшествовавшие государственному перевороту, «последние энтузиасты из буржуазии, видя, что республика умирает, спешили перейти на сторону консерваторов». «Дерево свободы» — молодой тополь, пересаженный в 1848 году с берегов Вьорны на площадь Супрефектуры, засыхал (по слухам — Фелисите поливала его отравленной водой), что, по мнению муниципальных властей, наносило ущерб достоинству Республики. Достоинство ее было восстановлено тем, что спилили засохшее дерево, выбрав для этого, однако, вечерний час попозднее, так как боялись недовольства рабочих.
Кого объединял в 1851 году желтый салон Ругонов— это гнездо консерваторов, оплот реакции, еще не победившей окончательно? От наиболее состоятельной буржуазии Плассана сюда входил называвший себя орлеанистом Рудье. Грану, торговец миндалем, человек без определенных политических пристрастий, представлял муниципалитет. Разные оттенки консерватизма у посетителей желтого салона имели в основе одну сущность: «мирно есть и мирно спать — к этому сводились все их политические стремления». Клерикальная благонамеренная пресса была в салоне Ругонов представлена владельцем книжной лавки и издателем «Плассанского вестника» Вюйе, который наводнял город порнографическими картинками, «причем это совершенно не мешало его торговле молитвенниками». В лице бывшего наполеоновского вояки, начальника Национальной гвардии, майора Сикардо салон располагал вооруженной силой.
Кто из этих людей мог оспаривать лавры спасителей юрода? Ни один из посетителей желтого салона не согласился бы превратить свою гостиную в политический центр, никто не рискнул бы открыто заявить о своих убеждениях; впрочем, «у них не было твердых убеждений». У Ругонов же было единственное убеждение, что назревают события, которые позволят им наконец-то прорваться к богатству. Ведь еще старый маркиз Карнаван, относившийся к Фелисите почти с отеческой нежностью, поучал: «Если в департаменте все будет спокойно… то вам трудно будет выделиться и проявить преданность новому правительству… Но если народ восстанет и ваши бравые буржуа почувствуют себя в опасности, вы можете сыграть очень и очень выигрышную роль».
Ленин так характеризовал почву бонапартизма: «История Франции показывает нам, что бонапартистская контрреволюция выросла к концу XVIII века (а потом второй раз к 1848–1852 гг.) на почве контрреволюционной буржуазии, прокладывая в свою очередь дорогу к реставрации монархии легитимной. Бонапартизм есть форма правления, которая вырастает из контрреволюционности буржуазии в обстановке демократических преобразований и демократической революции»[77]. Эта социальная основа бонапартизма с большой точностью была показана Эмилем Золя в «Карьере Ругонов».