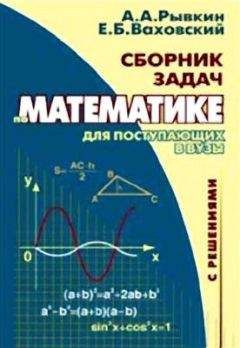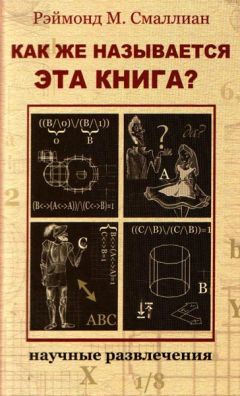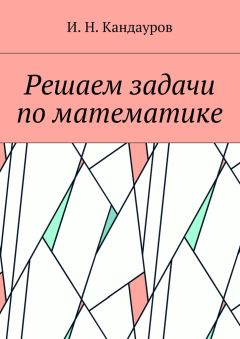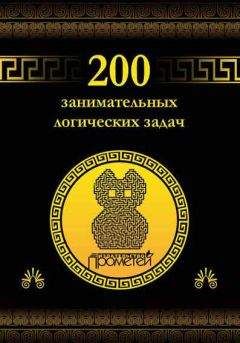Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
В первые же дни после февральских событий Фелисите почуяла, что они, наконец, встали „на правильный путь“ и растолковала Пьеру, что терять нечего, а „в общей свалке можно многое выиграть“.
В действиях четы Ругонов на новом для них поприще неизменно сохраняется оттенок „необыкновенной спекуляции“. О возможных своих политических успехах Пьер и Фелисите говорят на языке простейшей арифметики. Когда руководимый Эженом Пьер решил поделиться с женой вестями, полученными из Парижа, в их разговоре „крупные цифры так и взлетали, точно ракеты“. Стали подсчитывать доходы частного сборщика, место которого Пьер надеялся получить: „Твердый оклад, если не ошибаюсь, три тысячи франков“, — сказал Пьер. „Три тысячи франков“, — повторила Фелисите. Потом проценты со сборов — тысяч двенадцать. От банковских операций — еще тысяч пять. Всего — тысяч двадцать. Каждую цифру Фелисите повторяла, как эхо. Придется делиться с кем- нибудь „нашим пирогом“? „Нет, нет, это все нам одним“.
Ожидания победы Луи-Наполеона сливаются у Ругонов с самыми вульгарными материальными расчетами: последнее время они жили в долг „без всякой осторожности“, устраивая в желтом салоне „настоящие пирушки, на которых пили за гибель Республики“. И политический успех для них — это и возможность расплатиться по счетам кондитера, виноторговца и даже булочника с мясником. А когда шансы бонапартистов колеблются, Пьер, предоставивший реакции 10 000 франков на закупку оружия, кричит, как обанкротившийся торговец: „Меня обманули! Меня обобрали! Ведь Сикардо клялся, что Наполеон победит. Я думал, что даю в долг“.
Запутавшись, полагая, что нет никакого выхода, Пьер предлагает Фелисите: „Ну, так бежим… Хочешь, уйдем из Плассана ночью, хоть сейчас…“. Этот авантюрный возможный исход как бы противоречит внешнему складу жизни провинциальных буржуа, проведших в этом городе всю жизнь, но не противоречит „необыкновенной спекуляции“, посредством которой они решили разбогатеть.
Реалистический метод Золя в „Карьере Ругонов“ позволил воссоздать многие существенные черты сложной исторической эпохи, нарисовать среду, питавшую авантюризм Второй империи, показать, в какой обстановке созрели ее столпы и благодаря каким условиям смогли победить.
* * *„Эпопея, увлекшая за собой Сильвера и Мьетту, этих больших детей, жаждущих любви и свободы, священная, величавая, врывалась, как вольный ветер, в низменные комедии Маккаров и Ругонов. Громовый голос народа по временам гремел, заглушая болтовню желтого салона и разглагольствования дяди Антуана. И фарс, пошлый, вульгарный фарс превращался в великую историческую драму“. Жалкие персонажи из фарса становятся зловещими; их действия выходят далеко за пределы фарсовой стихии. И именно тот факт, что ничтожные фигуры играют заметную роль в исторической драме, придает изображаемому оттенок трагической иронии.
Золя в „Карьере Ругонов“ с великолепным искусством воспользовался возможностями композиции, чтобы показать исторические события в борьбе враждебных, несовместимых начал. Повстанцы не рассчитывали удержать Плассан, где реакция оказалась сильна настолько, что нельзя было организовать демократический комитет, как в других местах. Они решили мирно уйти, однако Маккар вызвался поддерживать в городе республиканский порядок, если ему дадут человек двадцать побойчее. Во главе своего отряда он отправился занимать мэрию, а Сильвер и Мьетта в колонне повстанцев вышли через Большие ворота, оставив за собой молчащий сонный город. И пока назревает трагедия в лагере повстанцев, в Плассане разыгрывается неприличный фарс, в центре которого — превосходные параллельные сцены „захвата“ мэрии сначала Антуаном Маккаром, затем Пьером Ругоном (существенное обстоятельство: мэрия была пуста. Мэра, г-на Гарсонне, повстанцы взяли заложником, а муниципальный аппарат пришел в расстройство).
Два авантюриста, из которых один пытается прорваться к богатству, примазавшись к Республике, а другой стремится к тому же, „охраняя порядок“, враждующие между собой, близки друг другу не только по крови, но и по внутренней сути.
Беспрепятственно „захвативший“ мэрию Маккар с непоколебимой „самоуверенностью пьяницы“ восседал в кабинете мэра, спокойно ожидая рассвета, не приняв мер предосторожности и не закрыв даже двери. Чтобы скоротать время, он сочиняет воззвание: „Жители Плассана! Пробил час свободы, наступило царство справедливости…“ Листовку не успели отослать в типографию. Впрочем, она пригодилась Пьеру Ругону. „Это вполне подойдет, — сказал он. — Надо только изменить несколько слов“. И в новой редакции воззвание прозвучало так: „Жители Плассана! Пробил час возмездия. Наступило царство порядка…“.
Захват мэрии Пьером потребовал от него не больше доблести, чем от Антуана Маккара, однако очень крупным планом показана в романе метаморфоза, когда незадачливый торговец прованским маслом превращается в „великого полководца“. Роль творческого воображения, которому Золя не раз противопоставлял в своих теоретических работах разных периодов протокольность, фактографию, бесспорным и самым плодотворным образом сказалась в ярком, эмоционально сильном и социально остром большом эпизоде в мэрии.
В VI главе романа, посвященной тому, как Пьер Ругон „спасает Плассан“, личность спасителя временами как бы укрупнена. Этот эффект достигается тем, что избавителю, точнее, завоевателю, не противодействует никто. Ругон, скрывавшийся у матери, вышел на добычу в пять часов утра. Тихонько крался по улицам, издали оглядывал перекрестки, дрожал перед каждой подворотней… „Город спал, как убитый, он лежал перед Пьером темный и спокойный, немой и доверчивый; стоит протянуть руку, чтобы завладеть им“. Пьер испытал невыразимое наслаждение. Он, который только что полз, полумертвый от страха, выпрямился в позе полководца: напасть на беззащитный город во сне и захватить… Мелкий собственник внезапно оказался готов к тому, чтобы действовать разбойничьими приемами. Собрал подмогу — сорок один „защитник порядка“ против двадцати республиканцев, оставшихся в мэрии — „такое соотношение сил казалось приемлемым“.
Живописная, яркая сцена захвата мэрии Пьером Ругоном создана разнообразными художественными приемами. Изредка презрительное сравнение, как, например, в описании шествия буржуа на приступ мэрии: они шагали вдоль стен молча, „гуськом, как дикари, отправляющиеся на войну“, обмениваясь взглядами, в которых „сквозь тупость просвечивала трусость и жестокость“. Явно пародийна драматическая сцена встречи двух братьев, оказавшихся во враждующих лагерях. Пьер, как бы ощутив в себе дух великого римлянина (впоследствии промелькнет и имя Брута), дает „клятву на форуме“, обещает презреть родственные узы: „Я выполняю свой долг, господа. Я поклялся спасти город от анархии и спасу его, хотя бы мне пришлось стать палачом своего родного брата…“. Оба авантюриста играют свои роли старательно, но фарсовая реплика Маккара, обращенная к Пьеру: „Ты — старый плут“, несколько снижает драматизм сцены.
В Ругоне после захвата мэрии совершается работа самопознания. Ее итог подчеркнут только двумя деталями: бывший торговец маслом, чья голова привыкла больше всего к ночному колпаку, шел домой декабрьским ранним утром, держа шляпу в руках и громко, по-солдатски стуча каблуками. „Оказывается, я храбр“, — открывал он в себе неведомое. „Может быть, я к тому же и остроумен“, — припоминал он свой ловкий ответ повстанцу, которого обманом отправил под арест.
Кульминационный момент событий в мэрии — эпизод с зеркалом — потребовал уже тона эпопеи. Этому эпизоду предшествует несколько сцен из героического спектакля, который разыгрывается на глазах обывателей.
Спаситель города скромно ожидает у себя сограждан, которые придут, чтобы просить его на время смуты возглавить власть.
Они являются. Простак Грану старается быть на высоте момента: „Вы спасли Плассан… Придите…“. Речь обрывается — память изменила Грану, но толпа в восторге.
Краткий совет мужей, принявших на себя бремя забот: „Дело прежде всего. Город в критическом положении“. Ругон, Рудье и Грану, пошептавшись в уголке гостиной, „под сурдинку поделили между собой власть“.
В рассказе о „захвате мэрии“ Ругон был „великолепен. Он дополнял, приукрашал и драматизировал“, превознося себя „в порыве эпического вдохновения“. Рудье и Грану сгорали от желания вставить и свое слово. „Иногда говорили все трое сразу“.
Черты мнимого эпического величия в этой сцене создаются собственно теми же приемами, что и в бурлескном искусстве, т. е. посредством очевидного контраста между возвышенным тоном и вульгарным предметом изображения. Но шутливый бурлеск никогда не заключал в себе столько сдержанного гнева и презрительной иронии.