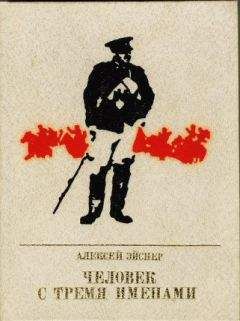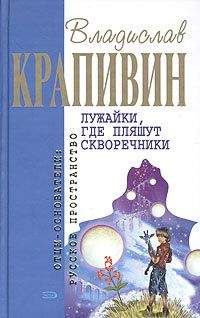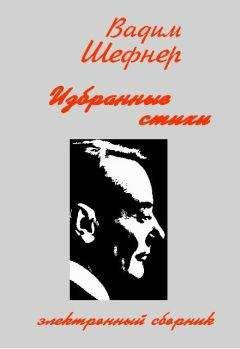Алексей Эйснер - Роман с Европой. Избранные стихи и проза
(с. 12)
или:
Как старым морякам, живущим на покое.
Все снится по ночам пространство голубое…
(с. 81).
Трудно не вспомнить «Песни западных славян»[32], читая «Молодого короля» (с. 102). Невозможно не услышать и дыхание Блока в некоторых белых стихах, например в «Огне на мачте» (с. 29), в «Венеции» (с. 107), в «Одиночестве» (с. 122), — главным образом, дыхания «Трех смертей»[33]. Кто не ощутит также и мужественный гумилевский ритм в такой хотя бы строфе:
Одинокая пальма вставала над ним
На холме опахалом своим,
И мелькали сверлили стрижи тишину
И далеко я видел страну.
Каким-то роковым образом за всякой, приятно удивившей соскучившееся ухо читателя, строфой обязательно раздается знакомое пение. Так «Петух на церковном кресте» неразрывно связан с «Вечерним звоном» Козлова[34]; так «Псалтирь» (с. 153). –
Бледно синий загадочный лик
На увядшие розы поник,
И светильники гроб золотят
И прозрачно струится их чад… —
Звучит, пока не послышится за этими словами скорбная панихида Фета: «На смерть Бражникова», — [35]
— Словно вешняя тучка зарей.
Ты погаснул, собрат молодой.
Приведенные примеры достаточно многочисленны и убедительны.
Еще более неблагополучно у Бунина с рифмой. Пусть он употребляет исключительно самые замученные и заезженные, пусть столбцами рифмует собственные имена, пусть во всей книге нет ни одной рифмы, которую услышишь, которая поразит ухо, — этого мало. Как и размеру, Бунин приносит ей слишком большие жертвы. Прежде всего, иногда затемняет смысл вопреки пресловутой своей ясности. Все в том же злополучном «Петухе на церковном кресте» в последней строфе петух –
Поет о том, что держит бег
В чудесный край его ковчег,
Что вечен только мертвых сон,
Да Божий храм, да крест, да он.
Если ковчег здесь не только для рифмы, то спрашивается, что же обозначает этот петушиный ковчег, неужели тот же, упоминаемый через строку, «Божий храм». Если и так, и если эта неясность и устраняется, то вопрос о рифме у Бунина еще не приведен в ясность. На с. 11 встречается рифма «лес» — «Антарес», — звезда, так сказать, не первой величины, и многие ли узнают ее без астрономического атласа. На с. 15 вместо «турий рог» сказано «рог туриный», ради рифмы с «долиной». На с. 23 —
…торчит из скал
Колючий, искривленный бурей,
Сухой и звонкий астрагал.
Это растение слишком «торчит» из «скал», и, по-видимому носится как раз к тому семейству, над которым некогда смеялся Достоевский, говоря, что его ни в каком руководстве по ботанике не найдешь[36]. В дальнейшем попадаются такие, например, рифмы: «армячишки» — «мальчишки»; «подушки» — «побирушки», «звезд» — «гнезд» (заимствована из известного параграфа грамматики); с «Богом» рифмуется совершенно изумительная строка, где одно отлагательное исключает другое — «в восторге буйном, злом и строгом». Из-за того, чтобы попасть в рифму с «глаза», некая малайская красавица изгибается, «как лоза». В стихотворении «Дурман» отец умершую девочку –
…прикрыл сосновой крышкой
И на погост отнес под мышкой.
Такова бунинская рифма. Ничуть не лучше и со словарем. Его достаточно характеризуют и вышеприведенные примеры. Достаточно добавить, что в этом неразборчивом и пестром словаре, среди самых стертых штампов, вроде «венец небесной красоты» (с. 220), или «сказочные годы» (с. 231), широкой рукой рассыпанных по страницам сборника и мертвящих самые яркие из них, попадается порой и настоящая безвкусица. Иногда и она несамостоятельна, вроде, например, такой:
В гелиотроповом свете молний летучих…
сложившейся под несомненным влиянием Игоря Северянина. Иногда же это самородки. Так на с. 77 Бунин выясняет, что земля призывает человечество «пьянить себя мечтой», после каковой пошлости совершенно не удивительно, что ему все «радостно и ново», даже и «уют алькова».
Если не претендовать на исчерпание бездонного колодца подобных достижений, которые противопоставляются иному «безграмотному бормотанью», но преимущество которых неизвестно в чем-то не следует увлекаться статистикой и приводить все невозможные ошибки во всех возможных направлениях, — все то, чем исковеркана почти каждая из 250 страниц «Избранных стихов». Совершенно достаточно уже приведенных, чтобы неотразимой была основная мысль, сводящаяся к тому, что Бунин не владеет стихотворной формой. И так он работает над нею столько лет, и так как он, как строгий к себе художник, не выпустил бы в свет книги стихов, если вы видел ее недостатки, не исправив их, — остается сделать один вывод, поэзия в своих формах глубоко чужда и недоступна ему.
* * *
Теперь следует перенести внимание на внутреннее содержание поэзии Бунина. Как ни кощунственно такое разделение, как ни трудно представить себе поэзию без формы, поэзию не воплощенную, — для большей убедительности это необходимо. И вот, если в отношении формы Бунин характеризуется отрицательно, — как не поэт, то в отношении содержания он характеризуется положительно — как прозаик.
В некоторых своих высказываниях (особенно о Блоке) Бунин чрезвычайно неосторожно выдал одну свою тайну — он совершенно не знает, что такое поэтическая тема, он не подозревает, что у поэзии есть какое-то совсем свое содержание, отличное от содержания прозаической литературы, так же как и философии. Его «Избранные стихи» с прочной наглядностью это подтверждают.
По содержанию их можно грубо разделить на три основные группы: рассказы в стихах (сюда относятся наиболее удачные внешне пьесы, главным образом стилизации); чистые описания (преимущественно пейзажи) и описания с определенным философским выводом.
Первая группа — это откровенная попытка рифмованной и ритмической обработки очевидно прозаической темы. Передача какой-нибудь легенды или события бунинскими стихами заставляет обычно пожалеть, что это сделано не прозой. Иногда эта часть творчества Бунина сильно приближается к стилизованной прозе, — к сказу.
Вторая группа — поэтические пейзажи — не так легко обнаруживает свою прозаическую сущность. Здесь следует обратиться к примерам. Еще в 1901 году Бунин написал:
Раскрылось небо голубое
Меж облаков в апрельский день.
В лесу все серое, сухое
И паутиной пала тень.
Змея, шурша листвой дубовой,
Зашевелилася в дупле,
И в лес пошла, блестя лиловой
Пятнистой кожей по земле.
Сухие листья, запах пряный,
Атласный лист березняка…
О миг счастливый, миг обманный,
Стократ блаженная тоска!
Все стихотворение состоит из двух частей. Первая — описание в 10 строках и вторая — лирический вывод в 2 строчках. Но если первая строфа есть еще описание поэта, несмотря на грамматическую неуклюжесть третьей строки, то во второй строфе поэта вытесняет прозаик. Поэт, всматриваясь в апрельский день, готовясь к напряженному лирическому взрыву в последних строках, не мог бы отвлечься мелкой подробностью описаний того, как «пошла» гулять в лес какая-то змея, подробностью, разрушающей своей конкретностью общую лирическую гармонию момента. Но прозаику такая подробность интересна как деталь картины, которую он рисует. Для того, чтобы от нее перейти к лирическому выводу, ему и пришлось выдумывать две полных тавтологии строчки, открывающие последнюю строфу, но в своей описательности нисколько не подготовляющие и не оправдывающие лирический удар концовки.
Еще более ясно указывает на то же стихотворение «После дождя» —
Все море — как жемчужное зерцало.
Сирень с отливом млечно-золотым.
И как тепло перед закатом стало,
И как душист над саклей тонкий дым!
Вон чайка села в бухточке скалистой;
Как поплавок. Взлетает иногда
И видно, как струею серебристой
Сбегает с лапок розовых вода.
У берегов в воде застыли скалы,
Под ними светит жидкий изумруд,
А там вдали — и жемчуг и опалы
По золотистым яхонтам текут.
Относительно этого стихотворения очень хочется сказать, что оно написано не поэтом и не прозаиком, а ювелиром, — какая-то витрина драгоценных камней, а не природа, — но оставляя, по возможности, форму в стороне, еще легче указать — как и здесь общее описание, возможное и у поэта, переходит в нечто, свойственное только прозаику, причем и он еще должен оговориться, добавить, что смотрел в бинокль. Действительно, эта сбегающая с лапок далекой чайки («вон» и «как поплавок» указывают расстояние) розовая вода — подробность, у поэта невозможная по самой его психологии. А вот еще более обнаженное описание, очевидная деталь прозаического произведения. –