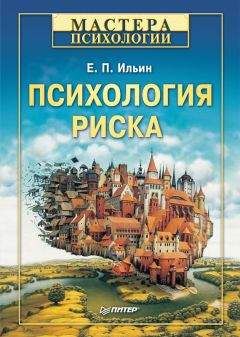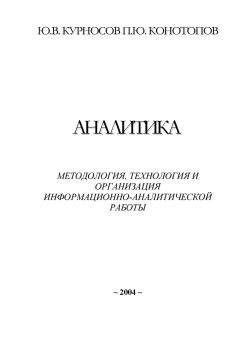Виталий Шенталинский - Осколки серебряного века
Настоящая катастрофа обрушилась на дом, когда в 1925 году внезапно умерла мать Даниила. «Радость воплощенная ушла из жизни, — писал Шестову Дмитрий Жуковский. — Это было гениальное сердце… Если прибавить к этому ее ум и дар творчества, питающийся натурой, то приходится сказать, что это был совсем исключительный человек… Далику 16 лет. Хороший мальчик, хотя безвольный, недисциплинированный… По–видимому, имеет литературный талант. Писал и стихи. Выработал стиль… Увлекается… путешествиями. Исходил весь Крым пешком. Делает по 60 верст в один день. Очень любит природу…»
А скоро Даниил расстанется и с отцом, объявленным контрреволюционером и отправленным в ссылку. Последней нитью, связывающей юношу с этим родным, на глазах гибнущим миром, были поездки в Коктебель, к Волошину, чтение ему стихотворных опытов и ответное дарение мастером — своих стихов, которые быстро затверживались наизусть…
Они лежали сейчас там, в кромешной папке следователя. И среди них были строки, предсказавшие судьбу Даниила:
Кто написал на этих стенах кровью:
Свобода, братство, равенство
Иль смерть?..
Среди рабов единственное место,
Достойное свободного, —
тюрьма…
Даниил решил защищаться. Он направил из тюрьмы в спецколлегию Московского городского суда, где должно было слушаться дело, заявление, в котором просил затребовать и приобщить к делу экземпляр «Литературной газеты» со статьей по поводу смерти Волошина и официальные справки о том, что тот до последних дней был персональным пенсионером и что его дом в Коктебеле превращен теперь в Музей имени Волошина, — «данные, которые помогли бы установить мое незнание того, что хранение и чтение стихов М. Волошина может подвергнуться репрессиям со стороны органов НКВД». Кроме того, он просит приобщить к делу и его дневник, отобранный при обыске, где он высказывал свое отношение к советской действительности. И еще — произвести медицинское освидетельствование его состояния.
Из всех этих просьб была исполнена только одна: Жуковского показали врачам. Медицинский акт гласил:
«Жуковский… душевными заболеваниями не страдает, обнаруживает склонность к истерическим реакциям. Кроме того, отмечается прогрессирующая мышечная атрофия с поражением мышц плечевого пояса. Болезнь хроническая, прогрессирующая и неизлечимая. К физическому труду не годен. Как недушевнобольной — вменяем».
Заседание суда откладывалось дважды по одной причине: из–за неявки главного свидетеля обвинения — Стефановича. Он испугался предстать перед глазами друзей, которых предал, и посылал вместо себя письма, подтверждая свои показания. Суд потребовал объяснения неявки. И Стефанович сослался на тяжелое нервное расстройство.
Суд проходил 13 апреля.
Ануфриева, отвергая свою вину, объясняет, что она вовсе не подговаривала Стефановича к террору, наоборот, остерегала и вспоминала Раскольникова как отрицательный пример. И не она, а Стефанович все время провоцировал разговоры о терроре, хотя ей это надоело. Да, в юности она увлекалась французской романтикой, подготовлялась к совершению теракта над представителем из центра, но это была детская мечта — теракт кухонным ножом… И если бы были все возможности совершить теракт над Сталиным, например, он был бы поставлен рядом со мной, то и тогда она бы этого не сделала…
Жуковский тоже виновным себя не признал. Подтвердил только свои слова о том, что для искусства нет свободы. Что же касается стихов Волошина, то и тут от них не отрекся. И в своем последнем слове он сказал:
— Стихи Волошина дороги мне как память о поэте, которого я знал лично. Хотя стихи Волошина не печатались, имеют религиозный оттенок, но именно они повлияли на мою психику в смысле поворота к Советской власти. Я увлекался изучением стихосложений, политикой не интересовался. В разговоре о стахановцах я говорил, что имею идеалистическую жилку, мешающую примкнуть к общему движению. Показания Стефановича о Сталине — выдумка, такого разговора не было… О фашизме говорил только он, Стефанович, что там возникает новая религия, огнепоклонство, — в ответ на мои слова, что у нас религия отмирает.
Объявлен приговор: тюрьма, восемь лет — Ануфриевой и пять — Жуковскому.
Однако и на этом суд не закончился. Осенью того же года по жалобе Жуковского состоялось еще одно заседание. На сей раз Стефановича все же заставили прийти, он страшно вилял, стараясь и чекистам угодить, и перед друзьями обелиться, мямлил, например, что его друг Даниил, с одной стороны, несоветский, а с другой — совсем наоборот…
— Обвинение мне понятно, виновным себя не признаю, — сказал судьям Жуковский. — Чтобы я когда–нибудь вел контрреволюционные разговоры — и не могу себе этого представить. Литературу я имел, но хранение ее не считаю преступлением. Волошин свои стихи читал в Москве, в Коктебеле, даже якобы читал и в Кремле…
Такой эпизод в биографии Волошина действительно был. Он читал стихи в Кремле, на квартире Каменева, в попытке получить разрешение на их публикацию «на правах рукописи». И выбрал самые острые, те, что теперь, на суде, именовали «антисоветскими». Один из свидетелей этой сцены, музыковед Сабанеев, вспоминает, что поэт — со своей огромной фигурой, пышной шевелюрой и бородой, со своим громовым голосом — был похож на пророка Илью, обличающего жрецов. После соответствующей паузы Каменев изобразил литературного критика, пустился в обсуждение отдельных образов и выражений. О содержании — ни слова, будто его и нет. Потом подошел к столу и настрочил записку в Госиздат: всецело поддерживаю просьбу поэта Волошина об издании стихов «на правах рукописи»…
Довольный Волошин распрощался и ушел. А Каменев подошел к телефону, вызвал Госиздат и, не стесняясь присутствия свидетелей, распорядился:
— К вам придет поэт Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения…
Вернемся к суду.
— Стихи от Волошина я получал в 1929 — 1930 годах, когда бывал у него на даче, — рассказывал Жуковский. И, как на первом суде, опять уличит в подделке следователя: — Его стихи я не считаю антисоветскими, черносотенными… Я говорил, что склоняюсь к идеализму, и пожаловался на то, что в нашей стране доминирует материалистическое мировоззрение. Желания возврата прошлого времени я не высказывал…
В результате приговор был оставлен в силе, но с отбытием наказания не в тюрьме, а в лагерях. И отправили в гибельное плавание — по кругам гулаговского ада.
Наталья после Лубянки и Бутырок пройдет через ярославскую, горьковскую и суздальскую тюрьмы и только потом попадет в колымский лагерь. Она отсидит свой срок «от звонка до звонка», а через пять лет после освобождения будет повторно осуждена по первому делу, сослана в Сибирь. Реабилитируют ее уже посмертно. Стихи будет писать до последних дней жизни, которая оборвется в 1990 году.
Жуковский уйдет из жизни намного раньше. Вместо лагеря он окажется в Орловском централе и там будет еще раз осужден. За что же теперь? Как сказано в обвинении, «среди заключенных проводил контрреволюционную агитацию, оскорбительно отзывался об органах Советской власти, извращенно истолковывал советскую конституцию».
В деле подробно излагаются эти преступления.
1 ноября 1937 года ретивый охранник с простонародной неуклюжестью докладывал начальнику тюрьмы о возмутителях спокойствия, среди которых был и Жуковский:
«Довожу до вашего сведения о том, что камеры № 1 и № 3 повседневно, систематически нарушают тюремный режим, систематически занимаются шипками, разговорами, шумом и т. д. Не дают отойти от двери, обратно шумят за весь день, не отходишь от их дверей. На первую камеру мной был написан вам рапорт, но ответу нет. Прошу принять меры».
Резолюция начальника тюрьмы: посадить в карцер на пять суток!
Вскоре — еще один сигнал, от другого стражника. Через месяц — новый рапорт, от третьего:
«Доношу до вашего сведения, что при моем дежурстве в камере № 1 з-к Жуковский все время нарушал тюремные правила… Собирая з-к по углам, восхвалял Германию Гитлера, и он же производит этим же моментом перестукивание с соседними камерами. Несмотря на неоднократные предупреждения, он все равно продолжает все эти похабные явления в своей камере».
В начале нового, 1938 года к штатным охранникам присоединяется нештатный, подсаженный в камеру в качестве «наседки»:
«Жуковский продолжает в камере ругать органы Советской власти, ни за что сажают в тюрьмы невинных людей. Конституцию рассматривает как обман народа, которая выгодна только сталинскому руководству, заставляет народ заниматься доносами друг на друга».
Тут уж чаша терпения тюремщиков переполнилась! Довольно церемониться! На Жуковского заводят новое дело. 15 февраля 1938 года Особая тройка выносит приговор: расстрелять!