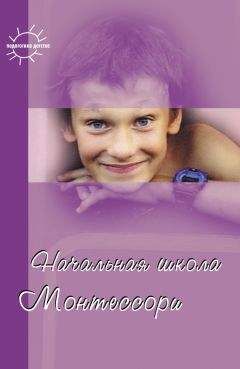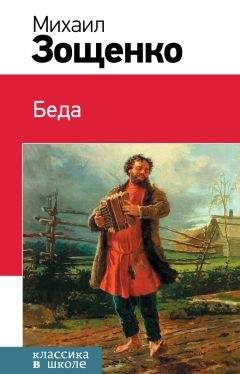Лев Выготский (Выгодский) - Мышление и речь (сборник)
«– Ежели я, к примеру, пойду в землю, потому я из земли вышел, из земли. Ежели я пойду в землю, например, обратно, каким же, стало быть, родом можно с меня брать выкупные за землю?
– А-а, – радостно произнесли мы.
– Погоди, тут надо еще бы слово… Видите ли, господа, как надо-то… – Ходок поднялся и стал посреди комнаты, приготовляясь отложить на руке еще один палец. – Тут самого-то настоящего-то еще нисколько не сказано. А вот как надо: почему, например… – Но здесь он остановился и живо произнес: – Душу кто тебе дал?
– Бог.
– Верно. Хорошо. Теперь гляди сюда…
Мы было приготовились глядеть, но ходок снова запнулся, потеряв энергию, и, ударив руками о бедра, почти в отчаянии воскликнул:
– Нет! Ничего не сделаешь! Все не туды… Ах, боже мой! Да тут я тебе скажу нешто столько! Тут надо говорить вона откудова! Тут о душе-то надо – эва сколько! Нету, нету!»
В этом случае отчетливо видна грань, отделяющая мысль от слова, непереходимый для говорящего рубикон, отделяющий мышление от речи. Если бы мысль непосредственно совпадала в своем строении и течении со строением и течением речи, такой случай, который описан Успенским, был бы невозможен. Но на деле мысль имеет свое особое строение и течение, переход от которого к строению и течению речи представляет большие трудности не для одного только героя рассказанной выше сцены. С этой проблемой мысли, скрывающейся за словом, столкнулись, пожалуй, раньше психологов художники сцены. В частности, в системе Станиславского мы находим такую попытку воссоздать подтекст каждой реплики в драме, т. е. раскрыть стоящие за каждым высказыванием мысль и хотение. Обратимся снова к примеру.
Чацкий говорит Софье:
– Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
Подтекст этой фразы Станиславский раскрывал как мысль: «Прекратим этот разговор». С таким же правом мы могли бы рассматривать ту же самую фразу как выражение другой мысли: «Я вам не верю. Вы говорите утешительные слова, чтобы успокоить меня». Или мы могли бы подставить еще одну мысль, которая с таким же основанием могла найти свое выражение в этой фразе: «Разве вы не видите, как вы мучаете меня. Я хотел бы верить вам. Это было бы для меня блаженством». Живая фраза, сказанная живым человеком, всегда имеет свой подтекст, скрывающуюся за ней мысль. В примерах, приведенных выше, в которых мы стремились показать несовпадение психологического подлежащего и сказуемого с грамматическим, мы оборвали наш анализ, не доведя его до конца. Одна и та же мысль может быть выражена в различных фразах, как одна и та же фраза может служить выражением для различных мыслей. Само несовпадение психологической и грамматической структуры предложения определяется в первую очередь тем, какая мысль выражается в этом предложении. За ответом: «Часы упали», последовавшим за вопросом: «Почему часы стоят?», могла стоять мысль: «Я не виновата в том, что они испорчены, они упали». Но та же самая мысль могла быть выражена и другими фразами: «Я не имею привычки трогать чужие вещи, я тут вытирала пыль». Если мысль заключается в оправдании, она может найти выражение в любой из этих фраз. В этом случае самые различные по значению фразы будут выражать одну и ту же мысль.
Мы приходим, таким образом, к выводу, что мысль не совпадает непосредственно с речевым выражением. Мысль не состоит из отдельных слов – так, как речь. Если я хочу передать мысль, что я видел сегодня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно блузы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что он без башмаков, отдельно то, что он бежит. Я вижу все это вместе в едином акте мысли, но я расчленяю это в речи на отдельные слова. Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по своему протяжению и объему, чем отдельное слово. Оратор часто в течение нескольких минут развивает одну и ту же мысль. Эта мысль содержится в его уме как целое, а отнюдь не возникает постепенно, отдельными единицами, как развивается его речь. То, что в мысли содержится симультанно, то в речи развертывается сукцессивно. Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в словах. Именно потому, что мысль не совпадает не только со словом, но и со значениями слов, в которых она выражается, путь от мысли к слову лежит через значение. В нашей речи всегда есть задняя мысль, скрытый подтекст. Так как прямой переход от мысли к слову невозможен, а всегда требует прокладывания сложного пути, возникают жалобы на несовершенство слова и ламентации по поводу невыразимости мысли:
Как сердцу высказать себя,
Другому как понять тебя…
или:
О, если б без слова сказаться душой было можно!
Для преодоления этих жалоб возникают попытки плавить слова, создавая новые пути от мысли к слову через новые значения слов. Хлебников сравнивал эту работу с прокладыванием пути из одной долины в другую, говорил о прямом пути из Москвы в Киев не через Нью-Йорк, называл сам себя путейцем языка.
Опыты учат, что, как мы говорили выше, мысль не выражается в слове, но совершается в нем. Но иногда мысль не совершается в слове, как у героя Успенского. Знал ли он, что хочет подумать? Знал, как знают, что хотят запомнить, хотя запоминание не удается. Начал ли он думать? Начал, как начинают запоминать. Но удалась ли ему мысль как процесс? На этот вопрос надо ответить отрицательно. Мысль не только внешне опосредуется знаками, но и внутренне опосредуется значениями. Все дело в том, что непосредственное общение сознаний невозможно не только физически, но и психологически. Это может быть достигнуто только косвенным, опосредствованным путем. Этот путь заключается во внутреннем опосредствовании мысли сперва значениями, а затем словами. Поэтому мысль никогда не равна прямому значению слов. Значение опосредствует мысль на ее пути к словесному выражению, т. е. путь от мысли к слову есть не прямой, внутренне опосредствованный путь.
Нам остается, наконец, сделать последний, заключительный шаг в нашем анализе внутренних планов речевого мышления. Мысль – это еще не последняя инстанция во всем этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления. Если мы сравнили выше мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были бы, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака. Действительное и полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действенную, аффективно-волевую подоплеку. Это раскрытие мотивов, приводящих к возникновению мысли и управляющих ее течением, можно проиллюстрировать на использованном уже нами примере раскрытия подтекста при сценической интерпретации какой-либо роли. За каждой репликой героя драмы стоит хотение, как учит Станиславский, направленное к выполнению определенных волевых задач. То, что в данном случае приходится воссоздавать методом сценической интерпретации, в живой речи всегда является начальным моментом всякого акта словесного мышления. За каждым высказыванием стоит волевая задача. Поэтому параллельно тексту пьесы Станиславский намечал соответствующее каждой реплике хотение, приводящее в движение мысль и речь героя драмы. Приведем для примера текст и подтекст для нескольких реплик из роли Чацкого в интерпретации Станиславского.
При понимании чужой речи всегда оказывается недостаточным понимание только одних слов, но не мысли собеседника. Но и понимание мысли собеседника без понимания его мотива, того, ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание. Точно так же в психологическом анализе любого высказывания мы доходим до конца только тогда, когда раскрываем этот последний и самый утаенный внутренний план речевого мышления – его мотивацию. На этом и заканчивается наш анализ. Попытаемся окинуть единым взглядом то, к чему мы были приведены в его результате. Речевое мышление предстало нам как сложное динамическое целое, в котором отношение между мыслью и словом обнаружилось как движение через целый ряд внутренних планов, как переход от одного плана к другому. Мы вели наш анализ от самого внешнего плана к самому внутреннему. В живой драме речевого мышления движение идет обратным путем – от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредствованию ее во внутреннем слове, затем – в значениях внешних слов и, наконец, в словах. Было бы, однако, неверным представлять себе, что только этот единственный путь от мысли к слову всегда осуществляется на деле. Напротив, возможны самые разнообразные, едва ли исчислимые при настоящем состоянии наших знаний в этом вопросе прямые и обратные движения, прямые и обратные переходы от одних планов к другим. Но мы знаем уже и сейчас в самом общем виде, что возможно движение, обрывающееся на любом пункте этого сложного пути в том и другом направлении: от мотива через мысль к внутренней речи; от внутренней речи к мысли; от внутренней речи к внешней и т. д. В наши задачи не входило изучение всех этих многообразных, реально осуществляющихся движений по основному тракту от мысли к слову. Нас интересовало только одно – основное и главное: раскрытие отношения между мыслью и словом как динамического процесса, как пути от мысли к слову, как совершения и воплощения мысли в слове.