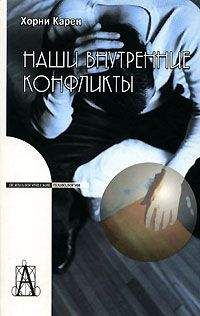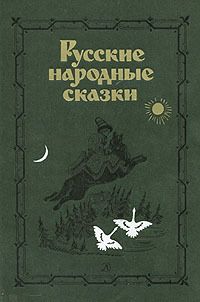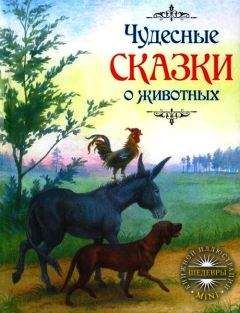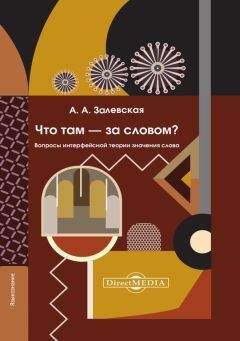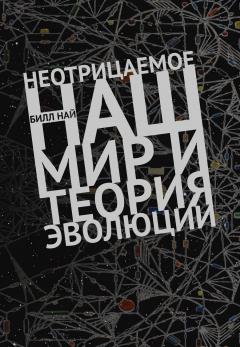Путешествие в окружающие миры животных и людей. Теория значения - фон Икскюль Якоб
Не менее интересно и рассмотрение связи между клещом и млекопитающим, осуществляющейся за счет правила значения.

Клещ неподвижно сидит на конце ветки до тех пор, пока под ней не появится бегущее млекопитающее, тогда он пробуждается от запаха масляной кислоты и падает вниз. Он падает на шерсть своей жертвы, сквозь которую он должен пробиться, чтобы добраться до теплой кожи, в которую он вонзает свое жало и всасывает кровяную жидкость. Орган вкуса у него отсутствует.
Воплощение этого простого правила значения охватывает почти всю жизнь клеща.
Строение клеща, который слеп и глух, композиционно настроено лишь на то, чтобы в его окружающем мире любое млекопитающее выступало в качестве одного и того же носителя значения. Мы можем определить этот носитель значения как в высшей степени обобщенное млекопитающее, не имеющее ни видимых, ни слышимых свойств, благодаря которым виды млекопитающих различаются друг от друга. Для клеща этот носитель значения имеет лишь один-единственный запах, который источает пот млекопитающих и который является для всех них общим. Кроме того, этот носитель значения осязаемый и теплый, и из него можно высасывать кровь. Таким образом, всех млекопитающих, столь различных в нашем окружающем мире по форме, цвету, издаваемым звукам и источаемым запахам, можно привести к одному знаменателю, свойства которого работают как контрапункт при приближении любого млекопитающего, будь то человек, собака, олень или мышь, и запускают в действие правило жизни клеща.
В нашем человеческом окружающем мире не существует млекопитающего самого по себе в качестве наглядного объекта, оно существует лишь как мысленная абстракция, понятие, которое мы используем как средство классификации, но которое никогда не встретится нам в нашей жизни.
У клеща всё совсем по-другому. В его окружающем мире существует лишь одно скомпонованное из немногих свойств, но вполне наглядное млекопитающее, которое точно отвечает потребностям клеща, поскольку эти немногие свойства служат контрапунктами для его способностей.
До тех пор, пока нас будет занимать поиск механических основ, в особенности загадочным нам будет казаться союз рака-отшельника с домиком улитки, что отнюдь нельзя объяснить постепенным приспособлением в ходе анатомических преобразований.
Но как только мы оставим такие бесплодные попытки и просто констатируем, что хвост рака-отшельника сформировался не как плавательный орган других длиннохвостых раков, а как орган для захвата раковин улиток, то хватательный хвост отшельника окажется не более загадочным, чем хвостовой плавник речного рака. Хватательный хвост рака-отшельника так же контрапунктно скомпонован с раковиной улитки, как и хвостовой плавник — с водой.
Матильда Герц сделала интересное открытие, согласно которому медоносные пчелы способны распознавать только две формы: раскрытую и закрытую. Пчел привлекают всевозможные лучевые формы и многоугольники, в то время как замкнутые формы наподобие кругов и квадратов отталкивают их. Морфологи объясняют это тем, что раскрытая форма обладает большей притягательностью. Возможно, так оно и есть. Но что это означает? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: все недоступные бутоны, на которые пчелы не реагируют, имеют закрытую форму. И напротив, распустившиеся цветки, которые предлагают пчелам свой нектар, имеют раскрытую форму.
Морфологическое правило пчел включает две схемы пространственного восприятия — для цветков и бутонов, что обусловлено правилом значения, которому подчиняется сбор меда. Таким образом, обе схемы контрапунктно увязаны с двумя основными формами цветков.
Однако как природе удается подсказать необходимые для различения форм действия животному субъекту, если его центральная нервная система совершенно примитивна и не способна создавать схемы для распознания форм?
Так дождевой червь, втаскивающий в свою узкую норку листья липы или вишни (служащие ему одновременно пищей и защитой), должен захватывать их со стороны кончика, чтобы они могли свободно пройти в отверстие. Если бы дождевой червь попытался ухватить листья за черешок, то они бы упирались и застревали на поверхности. Из-за особенностей своего строения дождевой червь не в состоянии образовывать формальные схемы, но зато он обладает очень тонким органом вкуса.
Благодаря Отто Мангольду [68] мы знаем, что дождевой червь может различать части листа, относящиеся к черешку и к вершине, даже в том случае, когда лист порезан на мелкие кусочки. Для червей верхушки листьев имеют иной вкус в сравнении с черешками. И этого достаточно, чтобы соотнести их с разными действиями. Так вместо формальных схем в действие вступают вкусовые признаки, чтобы обеспечить столь важное для жизни дождевого червя действие — затаскивание листьев в норку.
Мы вправе говорить здесь о тонко организованной природной композиции.
Опыт научил человека, что при ловле хищной рыбы не обязательно иметь на конце крючка точную копию ее добычи, но достаточно предложить щуке в качестве наживки обыкновенную серебристую пластинку, то есть очень приблизительный образ уклейки.
У природы нет нужды в подобном опыте. Lophius piscatorius, или европейский удильщик, или европейский морской черт, — это рыба с широкой пастью, у которой рядом с верхней губой имеется длинная подвижная косточка, на конце которой болтается серебристая ленточка.
Этого достаточно, чтобы приманить менее крупных хищных рыб. Пытаясь ухватить наживку, они внезапно оказываются в водовороте, который увлекает их в широкую пасть удильщика.
Здесь охват правила значения еще более широк, ибо оно связывает морфологическое правило удильщика не с образом добычи, на которую охотится хищная рыба, а с весьма упрощенным отображением этой добычи в окружающем мире хищной рыбы, ловлей которой занимается морской черт.
Схожий пример дают нам бабочки, украшенные пятнами в виде глаз, которые прогоняют взмахами своих крыльев охотящихся на них маленьких птичек, поскольку те сразу улетают, лишь только заприметят неожиданно появившиеся глаза небольших хищников.
Морской черт не знает, как выглядит добыча в окружающем мире хищной рыбы, на которую он охотится, равным образом и бабочка не знает о том, что воробья пугают кошачьи глаза. Но это должно быть известно композитору, создавшему такие композиции окружающих миров.
Это не человеческое знание, которое можно приобрести благодаря опыту. Об этом свидетельствует уже рассмотренное нами создание туннеля личинкой гороховой зерновки, которая осуществляет действие, предопределенное сверхчувственным знанием, не связанным с определенным временным моментом. Опираясь на это знание, композитор может сделать будущую жизненную потребность еще не существующего жука причиной действия его личинки.
8. Подверженность влиянию значения
В рассмотренном нами примере с изменениями цветочного стебля в четырех окружающих мирах — девочки, муравья, личинки цикады и коровы — цветок как носитель значения всякий раз противостоял новому адресату значения. Адресата мы также можем назвать усвоителем значения, ибо он использовал цветок то как украшение, то как путь, то как поставщика материалов для строительства дома, то как кусок пищи.
У этого примера есть и другая сторона, которую можно увидеть, если в качестве субъекта мы возьмем вместо цветка всё растение целиком, к которому этот цветок относится, и присовокупим к нему четыре фактора значения, прежде фигурировавшие в качестве субъектов.
В этом случае мы уже не вправе говорить о том, что растение усваивает значение. Восприятие значения можно сравнить лишь с подверженностью его влиянию. Эта подверженность имеет разные градации. Стебель легко переносит превращение в муравьиную дорожку. Также и выкачивание сока для строительства домика личинки цикады наносит растению лишь незначительный ущерб. И напротив, срывание цветов девушкой или их поедание коровой могут погубить растение.