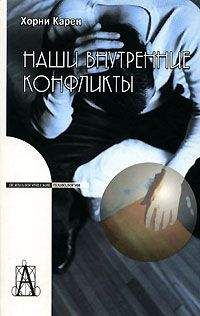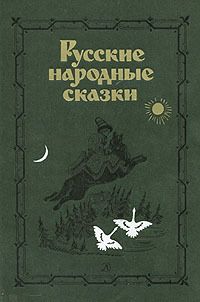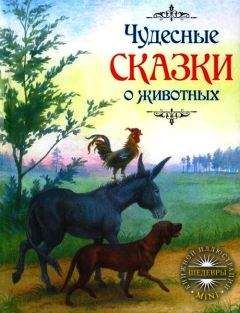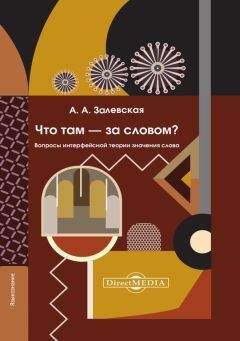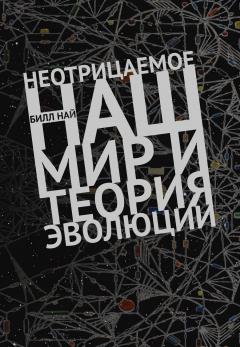Путешествие в окружающие миры животных и людей. Теория значения - фон Икскюль Якоб

Илл. 21. Среда и окружающий мир странствующего моллюска
Опыты показали, что форма и цвет двигающегося объекта не имеют никакого значения. Этот объект входит в окружающий мир моллюска лишь в том случае, когда у него есть воспринимаемый признак — если его движения столь же неторопливы, как движения морской звезды. Глаза странствующего моллюска настроены не на форму, не на цвет, а исключительно на определенную скорость движения, а именно на ту, что соответствует темпу перемещения врага. Однако этим характеристики врага не исчерпываются — к ним следует также отнести признак обоняния, чтобы у нас появился второй функциональный цикл, отвечающий за бегство моллюска от приближающегося врага, — признак действия, который окончательно нивелирует воспринимаемые вражеские признаки.
Долгое время считалось, что в окружающем мире морского червя есть восприятие признака формы. Уже Дарвин отмечал, что дождевые черви по-разному, в зависимости от формы, обходятся с листьями и с сосновыми иголками (илл. 22).

Илл. 22. Дождевой червь распознает объекты на вкус
И листья и иголки дождевой червь тащит в свою узкую нору. Они служат ему одновременно защитой и пищей. Как правило, при попытке затащить лист в узкий ход черешком вперед тот застревает. И напротив, если взять его за кончик, он легко сворачивается и беспрепятственно входит в отверстие. Между тем, чтобы избежать трудностей при протаскивании в ход, опавшие иголки сосны, которые всегда бывают парными, нужно брать не со стороны кончика, а со стороны основы.
Дождевые черви правильно и без всяких затруднений обращаются с листьями и иголками, из чего был сделан вывод, что форма этих объектов, играющая важную роль в оперативном мире дождевого червя, должна фигурировать как признак и в его рецептивном мире.
Это предположение оказалось ошибочным. Опыты с маленькими однотипными палочками, которые обмакивались в желатин, показали, что дождевые черви тащили их в свою нору, не различая, то за один, то за другой конец. Но как только на одну из сторон наносился порошок из сушеных кончиков вишневых листьев, а на другую — из их черешков, черви начинали различать концы палочки как черешок и вершину листа.
Хотя дождевые черви обращаются с листьями в соответствии с их формой, ориентиром для червей служит не форма, а вкус. Причина такого устроения, очевидно, сокрыта в том, что органы восприятия дождевых червей недостаточно развиты для образования рецептивных признаков формы. Этот пример показывает нам, как природа справляется с трудностями, которые нам кажутся совершенно непреодолимыми.
Итак, мы выяснили, что дождевые черви не воспринимают форму. Тем важнее для нас было выявить животное, которое бы ориентировалось в окружающем мире, в первую очередь опираясь на форму как воспринимаемый признак.
Этот вопрос позднее был разрешен. Было доказано, что пчелы садятся преимущественно на те фигуры, что имеют раскрытую форму звезд и крестов, и, наоборот, избегают таких закрытых форм, как круги и квадраты.
На илл. 23 в соответствии с этим сопоставлены среда и окружающий мир пчелы.

Илл. 23. Среда и окружающий мир пчелы
Мы видим пчелу посреди цветущего луга, на котором чередуются бутоны и распустившиеся цветы.
Если же мы поместим пчелу в ее окружающий мир и превратим цветки в соответствии с их формой в звезды или кресты, то бутоны примут замкнутую форму круга.
На этом основании нетрудно сделать вывод о биологическом значении этого неизвестного ранее свойства пчел. Для пчел значение имеют только цветки, а не бутоны.
Между тем, как это уже было продемонстрировано на примере клеща, единственным ориентиром в исследовании окружающих миров служат именно основанные на значении связи. И при этом совершенно неважно, является ли физиологическое воздействие раскрытых форм более эффективным.
Благодаря подобным исследованиям проблема формы сводится к простейшей формуле. Достаточно предположить, что в воспринимающем органе клетки восприятия локальных знаков подразделяются на две группы, одна из которых реагирует на «раскрытую» схему, а другая — на «замкнутую». Прочих различий не существует. Когда эти схемы проецируются на внешний мир, на их основе возникают общие «картины восприятия», которые, согласно последним успешным исследованиям, у пчел дополнены цветом и запахами.
Подобными схемами не располагают ни дождевые черви, ни странствующие моллюски, ни клещи. По этой причине в их окружающих мирах нет никаких настоящих картин восприятия.
6. Цель и план
Поскольку человек привык измерять свое бытие движением от одной цели к другой, мы убеждены, что нечто подобное свойственно и животным. Эта коренная ошибка по сей день постоянно наводит исследователей на ложный след.
Конечно же, никто не станет приписывать морскому ежу или дождевому червю способность ставить цели. Однако при описании жизни клеща мы уже говорили о том, что он подкарауливает свою жертву. Этим выражением мы, пусть и ненамеренно, произвольно приписали клещу, руководимому лишь природным планом, мелкие повседневные человеческие заботы.
Таким образом, первая задача, стоящая перед нами при исследовании окружающих миров, заключается в том, чтобы развеять ложное представление о цели. Этого можно достичь, лишь систематизируя жизненные проявления животных с точки зрения плана. Возможно, позднее будет установлено, что высшие млекопитающие в некоторых действиях руководствуются целью, однако они всегда будут подчиняться общему природному плану.
Все прочие животные вообще никогда не производят действий, направленных на достижение цели. Чтобы развеять все сомнения и удостовериться в справедливости данного тезиса, читателю достаточно заглянуть в некоторые окружающие миры. Илл. 24 обязана своим происхождением сведениям о том, как мотыльки воспринимают звук, которыми со мной поделился один знакомый исследователь. Она демонстрирует, что источник звука, на который настроены эти животные, не имеет никакого значения: воздействие звука, издаваемого летучей мышью, и трения притертой пробки будет одинаковым. Те ночные мотыльки, которые хорошо видны благодаря своей светлой окраске, улетают от источника высокого звука, в то время как имеющие защитную окраску виды при таком же звуке стараются приземлиться. Один и тот же признак порождает противоположные действия. Бросается в глаза высокая степень планомерности обеих полярных поведенческих реакций. Здесь не может быть и речи ни о распознавании, ни о целеполагании, поскольку ни один мотылек никогда не видел окраски своего покрова. Наше удивление в связи с наблюдаемой здесь планомерностью возрастет, как только мы узнаем, что искусное микроскопическое строение органа слуха ночного мотылька существует только ради восприятия этого единственного высокого звука — звука летучей мыши. Ко всему прочему мотыльки совершенно глухи.

Илл. 24. Воздействие на мотылька высокочастотными звуками
Вывод о различии между целью и планом можно сделать на основе показательных наблюдений Жана-Анри Фабра [49]. Он помещал самку павлиноглазки на лист белой бумаги, сидя на котором она некоторое время двигала своим брюшком. После этого он сажал самку под стеклянный колпак рядом с листом бумаги. Ночью через окно влетал целый рой самцов этого весьма редкого вида бабочек, и все они собирались на белом листе. Ни один из них не обращал внимания на самку, находящуюся под колпаком. Фабр не смог прокомментировать, какое физическое или химическое воздействие исходило от бумаги.