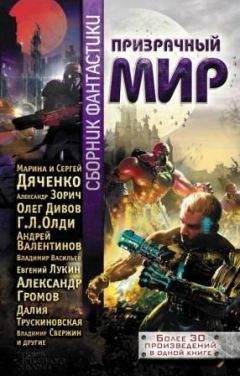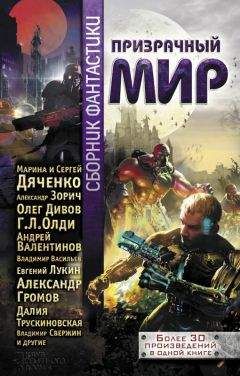Сара Бауэр - Грехи дома Борджа
Дон Джоффре нашел для меня мула и подсадил на него. Когда его стражник взял поводья и повез меня, я услышала вслед:
– Не забывай, моя сестра – маленькая хитрая лиса. Не стоит ее недооценивать.
Но я не обратила внимания на его слова. Все мои мысли были о Чезаре и завтрашнем дне.
– Куда вам нужно? – поинтересовался сопровождающий, когда мы свернули на площадь Святого Петра.
Я взглянула на Санта-Мария-ин-Портико, облезлый, заброшенный дворец, с покореженными ставнями на окнах, без стражи у дверей. А ведь прежде здесь всегда стояли красиво одетые привратники, с безразличием наблюдавшие за нашими приходами и уходами! Потом перевела взгляд на Ватикан и заметила голубоватый блеск разбитого стекла. В нем отражалось летнее послеполуденное небо, и вместо стен дворца перед моим взором возникли забранные решеткой окна и охранники в красно-золотой ливрее Чезаре, поделенной на четыре квадрата. Я увидела деревянную трибуну, украшенную знаменами и заполненную придворными во всем их великолепии. А в центре сидел старый понтифик и смеялся – готова поклясться, это не был загробный смех.
Справа от него какая-то девушка в изумрудно-зеленой гамурре пыталась вырваться из рук красивого мужчины, чьи пальцы впились ей в бедро и прижали к скамье с такой силой, что синяки у нее не сойдут еще несколько недель. Хотя я обратила на нее внимание, только когда она все-таки освободилась от железной хватки мужчины и с криком побежала в сторону базилики. Но даже тогда я не сумела рассмотреть ее. Потеряла свои очки. Они спали с глаз, когда я бежала, а мои соперники пытались втоптать меня в грязь. И я не разглядела, что это была моя сестра; я не увидела синяков, оставленных на ее теле рукой Валентино.
– Госпожа, – обратился ко мне человек дона Джоффре, – куда теперь?
– Дальше я сама. У меня есть мул, я справлюсь.
– Дону Джоффре понадобится этот мул.
– Я пришлю его. Позвольте мне остаться одной. Со мной ничего не случится, а вы узнаете, что я добралась до места, когда получите обратно мула. Скажете дону Джоффре, что я вас отпустила. Уверена, у него и так хватает забот, чтобы еще сердиться на вас из-за меня.
Стражник счел это резонным, повернулся и двинулся к Сан-Клементе. По тому, как он расправил плечи, я поняла, что стражник рад избавиться от меня не меньше, чем я от него.
До сегодняшнего дня не могу с уверенностью утверждать, что со мной случилось в тот день на площади Святого Петра. Оглядываясь назад, я полагаю, что это было видение измученного путешествием и болезнью сознания. Но в то время воспоминание об Эли, бежавшем наперегонки с остальными евреями, искавшем в грязи свои сломанные очки, и странное ощущение, будто я превратилась в него, подталкивали меня идти домой, что я и делала, вместе с сыном и мулом. Вечером я уже буду сидеть за отцовским столом. Умоюсь, переоденусь, зажгу свечи, точно я вообще никуда не отлучалась. Мои родные обнимут меня и назовут Эстер. Я лягу в старую кровать и убаюкаю свое дитя рассказами обо всех моих именах.
Выбросив дощечку, которой меня снабдил дон Джоффре, я уселась на мула по-мужски и пинками перевела на хорошую рысь. У меня внутри словно часы, которые подают сигнал примерно за час до захода солнца. Это чисто еврейская потребность оказаться в доме до восхода вечерней звезды, обозначающей начало шабата. Какие-то люди остановили меня на мосту Сант-Анджело, но тут же позволили ехать дальше, увидев печать донны Лукреции, после чего я быстро добралась уже без приключений. На дороге мне изредка попадались путники, но они спешили мимо, опустив плечи и вперив взгляды в землю.
Послы склонны описывать в трагических красках раскол общества, стоит случиться где-то бунту из-за цен на хлеб или эпидемии чумы, унесшей больше жизней, чем в предыдущем году, или туркам побряцать своим оружием перед нашим ухом. Но настоящий раскол, думала я под мерный стук копыт мула, отскакивающий от глухих стен близлежащих домов, – это когда каждый человек прячется в собственную раковину и глядит в будущее лишь на один шаг.
Еврейский квартал выглядел совсем обветшалым, улицы казались грязными, собаки тощими. Я поймала на себе несколько взглядов прохожих. Те оборачивались и долго глазели на меня – видимо, я смотрелась на своем муле, как красная сбруя. Но я продолжала двигаться вперед, не вертя головой, не думая ни о своих растрескавшихся руках и поломанных ногтях, ни о дырявых туфлях и потрепанном подоле юбки. Мне пришлось объехать рухнувший дом, полностью перекрывший улицу, поэтому, когда я спешилась и постучала в калитку отцовского дома, наступил вечер и одинокая звезда ярко светила в полоске багрового неба между крышами.
Калитка была облезлой. Несколько планок разбились, словно по ним прошлись топором. Мезуза, которую мы с матерью привезли из Толедо, все еще висела на косяке, но свешивалась под углом и слегка покачивалась на ветру, поднявшимся с наступлением темноты. Я потянулась, чтобы поправить ее, но в потемках толком не видела. Во дворе не горел ни один фонарь. Я опять постучала и вскоре услышала тихую поступь по дворовым плитам, а потом заскрипели несмазанные петли, отчего мул тревожно задергал ушами. Калитка открылась.
– Простите, – раздался голос старой женщины, – мне не снять засова, он погнут. Вам придется войти через эту дверь.
– Мариам!
Она постарела с тех пор, как я видела в последний раз, и растолстела, а факел в ее руках безжалостно осветил глубокие складки вокруг глаз и рта. Во второй раз за один день на меня посмотрели так, словно я призрак.
– Мариам, ты меня узнаешь? Я Эстер, – жалобно произнесла я.
– Тебе нельзя здесь оставаться, – сказала она, бросив взгляд через плечо.
– Что?
Но не успела она ничего объяснить, как с противоположного конца двора раздался голос Эли:
– Кто там, Мариам?
В голосе его звучали страх и сдержанность, словно ему часто приходилось встречать нежеланных ночных визитеров. Но где же отец? Мариам так растерялась, что не могла вымолвить ни слова. Я шагнула во двор, держа перед собой спящего ребенка как щит.
– Боже милостивый! – воскликнул Эли и забормотал молитву, прося прощение за то, что упомянул Господа. – Я поражен, как у тебя хватило наглости сюда явиться.
– Что это значит? Где отец? – Даже Марию встретили, наверное, радушнее, когда она постучала в дверь вифлеемского приюта.
– Можно подумать, ты не знаешь! – возмутился Эли, тряся пейсами и злобно разевая рот, казавшийся прорехой в черной кудрявой бороде. Пейсы? Когда он начал их носить? Папа всегда аккуратно подстригал виски и бороду.
– Не знаю.
Холодность Эли, а затем эта внезапная ярость испугали меня.
– Сир Эли, быть может… – пробормотала Мариам.
– Тебе запрещено разговаривать. И вообще, что ты делаешь не на женской половине?
Женская половина? Да что же тут происходит?
– Больше некому было открыть дверь.
– Лучше бы ты совсем ее не открывала.
Мариам покачала головой и потопала в кухню, строптиво расправив плечи.
– Эли, что случилось? Позови отца. Он не станет на меня так кричать.
– Наш отец мертв, Эстер. Неужели будешь притворяться, будто этого не знала?
Двор подо мной заходил ходуном, как корабельная палуба. И я пошатнулась, а может, мне это только пригрезилось, потому что никто даже не попытался поддержать меня. Я шагнула к Эли, но он закрыл лицо рукой, словно хотел защититься от меня.
– Я не знала, – прошептала я и чмокнула ребенка в макушку, найдя единственное утешение в теплой головенке. – Когда? Как это произошло?
– Оглянись вокруг.
Я принялась озираться. Фонтан, который я увидела, был забит ломаным кирпичом из парапета и выглядел так, точно по нему прошелся дубиной озлобленный великан. Плитка мощеного двора покрылась трещинами и сколами. Из стен повыдергивали кольца для привязи скота вместе с кусками штукатурки. Глициния, обрамлявшая дверь в вестибюль, отцовская гордость, хотя еще жила, но валялась на земле поверх разбитой решетки, торчавшей из листьев и шишковатых плетей.
– Это работа твоего любовника, – заявил Эли, с презрением выкрикнув слово «любовник». – Весь Рим это знает, и весь Рим знает почему. И у тебя хватило бесстыдства явиться сюда, изображать невинность и требовать отца. Ты мне отвратительна. – Он скользнул взглядом по младенцу у меня в руках, глаза за стеклами очков излучали холод. – Это его ребенок, полагаю. Даже не пытайся отрицать. Я видел тебя там, на трибуне, когда его рука лежала у тебя на колене. Мне не всегда нужны очки.
Я почувствовала, что за мной наблюдают из дома. Чьи-то глаза сверкали за полуприкрытыми ставнями, блестели под темными арками. Я вдруг стала маленькой и глупой ободранкой. Что я могла сказать? Что у меня остался от любовника ребенок, но я лишилась его доверия?
– А теперь убирайся. Ступай к нему. Раздели его судьбу, если в тебе осталась хоть капля совести. И пусть тебя пожалеет людской судья, поскольку я не могу тебя жалеть. У меня не осталось сестры.