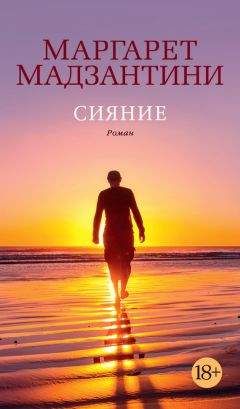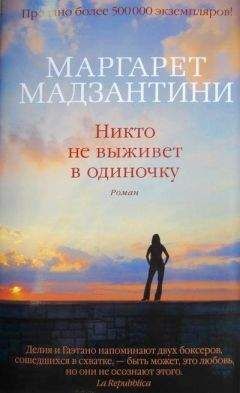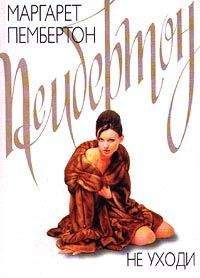Не уходи - Мадзантини Маргарет
— А твоя мать?
— Умерла.
— Но ведь у тебя, наверное, есть сестры, братья?
— Они все старше меня, все уехали в Австралию.
— Знаешь, мне хотелось бы взглянуть на места, где ты родилась…
— Там ничего такого нет. Была очень красивая церковь, но потрескалась во время землетрясения.
— Это все не важно, я хочу видеть места, где ты выросла, дорогу, возле которой ты жила.
— Зачем это тебе?
— Хочу знать, где ты была, когда я тебя еще не знал.
— Я была вот здесь, у тебя внутри. — Она дотронулась до моего живота горячей-прегорячей ладонью.
В этот день, Анджела, я отвез ее в места моей юности. В этот немного церемонный район, где жили рабочие и мелкие служащие; в пору моего детства он был в стороне от центра, но сегодня, когда город невероятно разросся, он стал почти что центральным. В нем появились кино, рестораны, свой театр и масса деловых контор. Мы вошли в тот самый парк, который в детстве казался мне огромным, а на самом-то деле он мал, неухожен, его со всех сторон теснят жилые корпуса. Он выглядит словно очесок старой шерсти, забытый среди новеньких готовых мотков. Я стал искать то местечко под деревом, где сиживала моя мать, пока я играл в саду. Она приносила с собой одеяло, расстилала его на траве и усаживалась. Я вроде бы узнал то дерево, и мы тоже под него уселись. Италия глядела куда-то вперед, там шел человек с собакой.
— Каким ты был маленьким?
— Таким вот и был, вечно чуть-чуть куксился.
— Это отчего же?
— Сначала я был толстым, робким и постоянно потел… Наверное, куксился оттого, что потел, а потел оттого, что был толстым и в придачу постоянно боялся порезаться или ушибиться.
— А потом?
— Потом я вырос, стал поджарым и потеть перестал. А куксюсь я по-прежнему, это мой характер.
— Мне ты вовсе таким не кажешься.
— Уверяю тебя, я большой любитель кукситься. Просто я тщательно это скрываю.
Вот мы у лестницы, ведущей в мою школу. Тридцать лет прошло, а школа выглядит точно так же. На своем месте осталась полоска двора, окруженного темной чугунной решеткой, и даже цвет штукатурки прежний, желтоватый. День идет к концу, свет уходит, но мы оба этого не замечаем; мы на воздухе уже изрядное время, и друг друга мы все еще видим, просто цвета нашей одежды чуть потускнели и цвет наших переплетенных рук стал немножко другим. Я хотел что-то рассказать ей, но погрузился в воспоминания и замолк. Мы сидим на мраморной ступеньке, на самом верху, откинувшись спинами на решетку. В этой самой позиции я много раз сидел с ватагой школьных приятелей, мы видели здесь столько восходов, но закатов не видели никогда. И вот, глядя, как спускаются сумерки, я вдруг чувствую, что жизнь — милая вещь даже и тогда, когда она начинает уходить. Важно, чтобы у тебя за душой оставалась такая вот школа и ограда, о которую можно опереться спиной. Чтобы было место, знавшее тебя мальчишкой и готовое принять и взрослым, если ты туда как-нибудь на досуге заглянешь. Теперь я понял, что не менялся, что всегда был одним и тем же и что человек, наверное, вообще не меняется — он просто приспосабливается к новому окружению.
— Ты в школе хорошо учился?
— К сожалению, хорошо.
— Почему же «к сожалению»?
Да потому, что взял тебя силой, и потому, что не стал плакать, когда умер мой отец, и потому, что никого не любил, и еще потому, Италия, что твой Тимотео всегда испытывал страх перед жизнью.
Мы тихонько идем вперед, и голова у меня окружена каким-то странным нимбом — вокруг нее витают смутные воспоминания, они примешиваются к тому, что есть сейчас. Я прижимаю к себе Италию, и мы идем дальше по дорожкам, чуть подталкивая друг друга бедрами, как двое влюбленных в чужом городе, потому что сегодня вечером эта часть города, знавшая меня ребенком, выглядит для меня совсем незнакомой.
Мимо, почти задевая нас, проходят люди. Они не знают, что мы и в самом деле влюблены друг в друга. Они не знают, что Италия беременна. И в конце концов мы случайно оказываемся перед домом, в котором я когда-то жил. Мы выныриваем из какой-то идущей на подъем улочки — там на углу стоит киоск с духовкой, из него вкусно пахнет пиццей. Я подумал, что хорошо бы нам съесть по ломтику, — и тут оказывается, что я стою перед домом своего детства.
— Я здесь прожил до шестнадцати лет, на третьем этаже, окон отсюда не видно, они выходят на ту сторону… Впрочем, подожди-ка…
Мы перелезаем через низенькую кирпичную ограду и оказываемся во дворе.
— Вот, смотри, вот это мое бывшее окно.
— А давай поднимемся! — предлагает Италия.
— Ну нет…
— Вон там в будке — портье, мы спросим у него. Тебе откроют, вот увидишь, они откроют!
И она сама тащит меня наверх, прямо до двери. Открывает нам девушка, но я смотрю не на нее, я смотрю на то, что за ее спиной. Она нас впускает. Там даже капитальные стены уже не на прежних местах, видна обширная комната с темным паркетом, в глубине — никелированный книжный стеллаж, белый диван и большой напольный телевизор. Девушка мила, столь же современна, как и ее дом. С Италией они переглядываются, как собаки разных пород. Я ничего здесь не узнаю, растерянно улыбаюсь.
— Не выпьете ли чего-нибудь, может, чашечку чая?
Я качаю головой, Италия тоже качает головой, но не столь убежденно; она, пожалуй, не прочь остаться и поглядеть на эту молодую и непонятную девицу с гладко зачесанными, черными как смоль волосами. Между прочим, ручки на оконных рамах все еще те самые…
— А, ну да, ручки и щеколды на окнах мы не трогали.
Девица живет здесь меньше года.
— До нас тут жила супружеская пара, но они разъехались, квартиру я у них купила совсем недорого.
Я приближаюсь к оконной раме и дотрагиваюсь до ручки. За моей спиной нет ничего, что я мог бы вспомнить, ровно ничего. Ну что же, теперь я знаю, что мои воспоминания привязаны к месту, которого больше не существует, это место улетучилось с лица земли, и те четыре комнатки, ванная и кухонька продолжают жить только во мне. Когда-то они казались вечными, теперь они ушли. В небытие ушел знакомый унитаз в туалете, в небытие ушли знакомые тарелки и кровати… Не найти никакого следа нашего пребывания здесь, и самый запах моей семьи исчез навсегда. «Зачем я сюда пришел?» — думаю я. Я трогаю оконную ручку, единственное, что еще остается, трогаю эту небольшую латунную финтифлюшку… когда-то мне приходилось залезать на стул, чтобы до нее добраться. Я гляжу в окно — из него даже вид теперь открывается совсем другой. Новые постройки затенили горизонт… двор, правда, все тот же, но он сплошь заставлен автомобилями.
— Большое вам спасибо.
— Помилуйте, за что…
И вот мы снова на улице, и вкусный запах из киоска снова до нас доносится.
— Как твои впечатления? — спрашивает Италия.
— Как ты насчет пиццы? — спрашиваю я.
Мы жуем пиццу уже по дороге обратно, я откусываю крупные куски, не переставая вести машину. Италия поглаживает мне ухо, щеку, голову. Она знает, что на душе у меня тревожно, и переживает. Она-то не отступает перед любой болью, наоборот, она идет ей навстречу. От прикосновения ее пальцев мне становится легче.
Позже, когда мы лежим в постели, когда я продолжаю целовать ей живот, она вдруг говорит:
— Ты знаешь, я ведь могу отказаться от всего этого, если хочешь, я откажусь, только ты скажи мне это сейчас, пока мы любим друг друга.
Поверь мне, Анджела, любить мне было нелегко, не было во мне этого, пришлось учиться с нуля. Мне пришлось научиться ласкать женщину, понять, для чего, помимо всего прочего, даны нам руки. Клешни у меня были, а не руки, вот что… В любви вместо рук у меня были клешни.
Идут по виадуку машины, сотрясают все четыре стены этой хижины. Через окно гул машин проникает внутрь. Стекла трясутся, грозятся вылететь, полоска липкой ленты, скрючившаяся от солнца, едва их удерживает.
— Я была в пятом классе, и приглянулось мне платье на базарном прилавке, из легкой ткани, с красными цветочками. Была суббота, я ходила по базару и то и дело возвращалась еще раз поглядеть на это платье. Дело шло к обеду, рынок почти опустел, продавщицы убирали товар с прилавков. Но был там и мужчина, он складывал кофточки. «Небось померить хочется?» — говорит он, а я ему говорю, что денег у меня нет. «Так ведь за примерку денег не берут». Я забираюсь в кузов его фургона, он мне помогает. Примеряю платье, там у него для примерок такая занавесочка была протянута. Дядька этот тоже заходит за занавесочку и принимается меня лапать. «Нравится… ух как нравится тебе это платье-то…» А я ведь и шевельнуться не могу, стою неподвижно, а он меня сгреб и лапает, лапает. Потом, весь потный, он мне говорит: «Ты только никому про это не рассказывай, поняла?» — и дарит мне это платье. Иду я оттуда, у меня ноги не гнутся, своя одежка в руках, а платье с цветочками на мне. Дома я его снимаю и запихиваю под кровать. Ночью проснулась и стала мочиться на это платье, я подумала, что от него мне будут только беды… А на следующий день я его сожгла. Про это никто не знает, да только мне кажется, что все всё знают и все могут таскать меня по фургонам и выделывать со мною всякие свинские штучки.