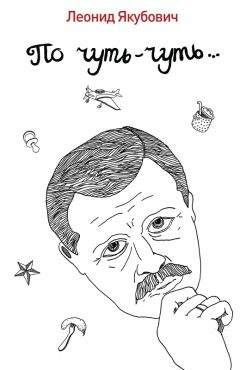Андромеда Романо-Лакс - Испанский смычок
— Думаю, в тот год я и сама предпочла бы умереть.
— Друзья, — прервал нас Аль-Серрас, — о чем вы? Вы хоть сами себя слышите? Вы повторяете одно и то же.
— Ты все знаешь, Авива, — гнул я свое. — Не можешь не знать. Ты собиралась выступать с Куртом Вайлем и Бертольтом Брехтом. С теми, кого ненавидят нацисты.
— Нацисты срывают театральные представления. Шумят, угрожают, швыряют на сцену вонючие бомбы и даже ночные горшки. Если они действительно захотят присутствовать на наших выступлениях, я им не откажу. Возможно, мы сделаем их добрее.
— Тебе все равно, перед кем играть?
Аль-Серрас попытался перехватить инициативу.
— Я думаю, — сказал он добродушно, — что вряд ли этот человек монстр. Надо постараться увидеть в нем человеческую сторону. В каждом есть человеческая сторона.
— Ерунда! — возразил я. Чувствовал я себя ужасно. Зачем я затеял этот спор с Авивой?
— Я устала, — сказала она, поднимаясь. — Пойду прилягу.
— И не поела толком, — посетовал Аль-Серрас, хлебной коркой подбирая остатки с ее тарелки. — А что она имела в виду, когда говорила, что в 1924 году хотела бы умереть?
После концерта в Лиссабоне мы втроем отправились в ночной клуб. Мы устали за день, к тому же назавтра нам нужно было уезжать, но нас пригласил местный меценат, и мы посчитали невежливым отказаться. Под быструю джазовую музыку Авива танцевала сначала с патроном, сеньором Мединой, затем с Аль-Серрасом. Медина топтался поблизости, готовый снова закружить ее в танце.
Но она решила сделать перерыв и присела рядом со мной. Щеки у нее разрумянились, лицо блестело.
— Спорю, ты ненавидишь эту музыку! — перекрикивая шум зала, сказала она.
— Вовсе нет, с чего ты взяла?
— А почему ты не танцуешь?
— Я научился танцевать вальс, — рассмеялся я, — но это мой предел. Все, что быстрее вальса, навсегда лишит меня возможности ходить.
— Что-что?
— Не важно, — улыбнулся я.
Она придвинулась ближе:
— Болит?
— Что? — переспросил я, хотя прекрасно расслышал вопрос.
Она наклонилась ко мне еще ближе, коснувшись волосами моей щеки:
— Бедро. Сильно болит?
— Иногда болит, — ответил я.
Авива, в отличие от Аль-Серраса, всегда относилась к моему физическому недостатку с вниманием. Она следила, чтобы мы вовремя отправлялись на концерт, избавляя меня от необходимости бежать, не давала мне таскать тяжести. При этом она никогда не заговаривала со мной на эту тему. Но сейчас спросила:
— А к врачу ты ходил?
Мой деланный смех с трудом пробился сквозь гвалт ночного клуба:
— Это родовая травма. Ни один врач не поможет.
Она коснулась рукой моей щеки:
— Зачем ты сам себя наказываешь?
Я замер, не смея шевельнуться. На нее я не смотрел — а вдруг то, что я принял за сочувствие, на деле не более чем любопытство?
— Ты не должен мириться с болью. — Она так и не отняла руку от моего лица.
Она молчала, и тогда я потянулся, взял ее руку и долго держал в своей.
Она что-то прошептала. Мне показалось или она в самом деле сказала: «Пойдем со мной»? Но я не двинулся с места. Я боялся упустить настоящий момент ради того, в котором не был уверен. Мои глаза скользили по столу, считая пустые бокалы. Сердце бешено колотилось.
— Я ведь во второй раз не предложу, — сказала она.
В этот миг музыка смолкла. Вернулся Аль-Серрас и плюхнулся на свой стул. Следом за ним подошел запыхавшийся Медина.
— Что я могу сделать для вас? — спросил наш португальский хозяин.
Авива выдернула свою руку из моей и выпрямилась:
— Закажите выпивку.
— Стыдись, — стукнул меня по спине Аль-Серрас. — Мучить такую замечательную девушку жаждой.
— Интересно, — сказал доктор Гиндл. — Но не необычно.
Это было через две недели в Швейцарии. Я смеялся над Аль-Серрасом, который красил волосы, чтобы произвести впечатление на Авиву. Но теперь я и сам занялся тем же. Я решил последовать ее совету.
Возможно, надеялся я, когда-нибудь я смогу с ней станцевать.
— Она почти не болит, — рассказывал я доктору. — Правда, иногда…
— Будет болеть, — прервал он меня. — Вы сказали, вам тридцать семь? К сорока годам артрит имеет тенденцию усугубляться. Носите тяжести в левой руке? Боль при этом усиливается? Позднее вам может понадобиться трость.
До этого я улыбался, пытаясь замаскировать дискомфорт, который ощущал при манипуляциях доктора с моей ногой.
— Дисплазия, — сказал он, в последний раз крутанув мое бедро, что вызвало острую боль в паху. — Головка бедренной кости выходит за пределы впадины на тазовой кости. Хорошо, теперь вы можете сесть.
Я медленно опустился на стул.
— Патологические роды? Заднее предлежание? — сыпал вопросами доктор. Видя недоумение на моем лице, он поспешил объяснить: — Вы родились не головой, а тазом вперед?
Я кивнул.
— Так обычно и бывает. Сразу после родов можно было бы исправить этот дефект. — Он положил мне руку на колено: — Вашим родителям не предлагали прооперировать вас в детстве?
Я отрицательно покачал головой.
— Вам нужна специальная обувь. И гимнастика.
— Я быстро устаю.
— Вначале мышцы устают, а затем становятся крепче. Вы родом из деревни? Наверняка в юности вас заставляли бегать, носить тяжести, работать ногой? Мышцам нужна тренировка, иначе они атрофируются.
Я отвернулся в другую сторону, и он добавил:
— Надеюсь, это не мешает вам играть.
Я оставил пиджак в другом углу комнаты и теперь ковылял к нему, стараясь не обращать внимания на вспыхнувшую боль.
— Против боли, — окликнул он меня, — можно попробовать вот это. — И он протянул мне небольшой коричневый пузырек, который извлек из своего саквояжа.
Я прочитал этикетку:
— А это не слишком сильное средство?
— Зато действенное.
— Не уверен, что нуждаюсь в обезболивающем. Бедро не так уж меня и беспокоит.
— Лекарство действует в течение четырех — шести часов. Некоторые пациенты принимают его на ночь, чтобы заснуть. В этом ничего нет постыдного.
Я подумал о любимых мною людях, которые смирились с моей болезнью и сдались ей без сопротивления, испортив мне всю дальнейшую жизнь. Авива сказала, что я не обязан терпеть боль. Мне хотелось ей верить.
Двадцатый день рождения Авивы в конце весны по времени совпал с концертом в Милане. Мы купили ей набор багажных сумок, чтобы она наконец выбросила свой плетеный саквояж, больше похожий на коробку для завтрака. После концерта, в ресторане, мы подняли тост за ее здоровье, а Хусто преподнес ей пару тонких кожаных перчаток — коварное дополнение к нашему общему подарку, о котором он мне ничего не сказал.