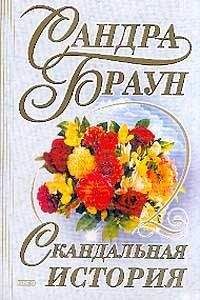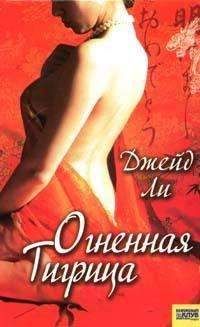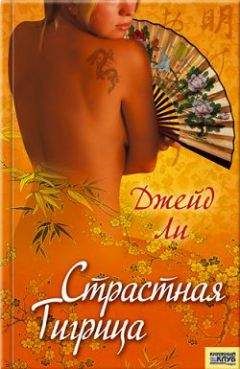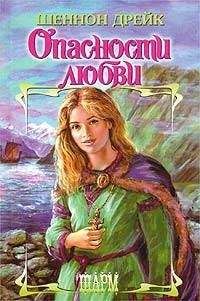Спенсер Скотт - Анатомия любви
Жизнь сделалась трудной, неловкой. Мы с Джейд переживали смущение людей, чья жизнь развивается, обгоняя даже полет воображения. Бывали провалы в молчание, неожиданно демонстрировавшие, насколько шатко все это предприятие, бывали столкновения характеров, проистекавшие из нашего незнакомства друг с другом в повседневном мире. У меня случались приступы паники, когда я сознавал, что Джейд погружена по пояс в поток людей – друзей, недругов и бывших любовников, – конечных сроков, местечковых шуток, соперничества и долгов. Однако по большей части я был преисполнен изумления оттого, какими счастливыми мы можем быть. По ночам мы занимались любовью на прохладных лужайках. Мы мылись вместе, шепотом напевая песни на ухо друг другу. Я готовил для нее с полдюжины своих фирменных блюд и вспыхивал от удовольствия, замечая, как она радуется, что я нахожу общий язык с ее друзьями. Мы катались на одолженном «саабе», играли в теннис на частном корте, который принадлежал преподавателю теории музыки, а когда я получил работу в местном магазине мужской одежды, мы с Джейд каждый день вместе обедали – сэндвичи с тунцом и чай со льдом, – сидя на лужайке под сенью громадной пресвитерианской церкви – огромного сооружения в готическом стиле, где запросто можно было бы одновременно крестить всех детей Вермонта.
Когда я только влюбился в Джейд, у меня имелось несколько друзей и здоровый аппетит к той вакханалии развлечений, которая в юности сходит за общественную жизнь. У меня были приятели, задушевные друзья, товарищи по играм и верные коллеги в тех клубах, членом которых я состоял: литературный журнал для старшеклассников и Студенческий союз за мир. Никто не знал – или, может быть, знали, но всем было наплевать, – что подобная общительность и весьма кислая веселость были верхом достижений для характера по сущности замкнутого. В уединении своей комнаты – это «уединение» было ключевой фразой моей юности, как будто я чувствовал, что внешний мир сделал меня объектом пристального изучения, – я писал, несколько в духе Аллена Гинзберга, длинные, лишенные формы стихотворения о своем одиночестве, о «закутанной в саван душе», которой никто не знает и которую сам я представлял сгустком холодного тумана. В те времена я был совершенно одинок. Когда же я увидел в Джейд свое отражение, то первым делом порвал со сверстниками, а затем и с родными. Полгода с Джейд буквально оставили меня без друзей. Возможно, я имитировал и ее отрыв от социума. Мой мир составляла только Джейд и ее семья. Даже подавая заявление в колледж, я знал, что не поеду. Мир, думал я, слишком уж благосклонно принимает мою ложь, поддается на примитивные уловки, которым я выучился. Мир был одновременно слишком прост и слишком жесток, чтобы требовать от меня верности или хотя бы принимать меня всерьез. В некотором смысле я предал тут Джейд: через меня она хотела выйти во внешний мир из тяготившей ее жизни семьи Баттерфилд, но вместо того, чтобы вывести ее наружу, я сам закопался, становясь, во всяком случае в своих желаниях, таким же воинствующим баттерфилдцем, как Кит.
Однако на этот раз, в Стоутоне, жизнь с Джейд привела к обратному результату. После почти пяти лет, когда я не имел с внешним миром никаких дел и таскался со своей безутешностью, демонстрируя всем, словно пикетный плакат «Пожалуйста, не делайте меня объектом своего внимания и симпатии. Я негодный», я наконец-то отыскал дорогу обратно. На этот раз, вместо того чтобы имитировать изолированность Джейд, я принял ее друзей как своих: соседей по дому, сокурсников, продавцов, преподавателей. Буквально все и каждый, с кем она была знакома, становились частью и моей жизни.
Она никогда не говорила об этом вслух, однако я знал: Джейд хочет, чтобы я сделался частью мира, в котором она живет вместе с друзьями. Она использовала фразу «неврастенические модели», описывая то, чего хотела избегнуть со мной, и изоляция была главной неврастенической моделью, от которой требовалось защищаться. Она знала, конечно, что я был бы более чем счастлив не видеться ни с кем, кроме нее, проводить все свободные часы в мансарде, в постели, в объятиях друг друга, не допуская никого в наш мирок, и обожание, с каким я относился к Джейд, было достаточным искушением. Она ощущала, что может поддаться ему. «Я хочу быть с тобой, но не так, как раньше. Не меньше, но по-другому». Как же я мог возражать? Это было бы равносильно тому, чтобы брюзжать по поводу размера нашей комнаты или мягкости нашей кровати. У меня не хватало духу переживать из-за мелочей нашего совместного бытия. То, что мы были вместе, затмевало все вокруг. Меня периодически бросало в дрожь от страха перед этой «немного новой Джейд», но даже в райских кущах время от времени невозможно не вспоминать, что вам нравится ветерок покрепче и вы никогда не испытывали большого восторга по поводу глицинии.
Дружба с друзьями Джейд была не тем, чего я хотел. Когда я представлял наше воссоединение, то не удосуживался включать в эту картину других людей. Я нафантазировал, как мы проживаем отведенный нам отрезок вечности в некоем застывшем подобии флоридской коммуны, в которой поселился дед: окно, кровать, холодильник, книжная полка. Но когда стало ясно, что знакомство с друзьями Джейд является обязательной частью жизни с ней, я поймал себя на том, что предаюсь своей вновь обретенной общественной жизни с удивительным наслаждением. Я так стремительно и горячо привязывался к совершенно чужим людям, что это походило на безумие. Джейд взяла меня в гости к старому преподавателю Эсбери – ставшему Карлайлом уже через десять минут знакомства и Корки где-то на середине первого бокала, – который пролежал почти год после того, как потянул спину, играя в теннис на росистом убогом корте на заднем дворе. Седовласый, поджарый и элегантный, Эсбери был безоговорочным любимцем всего кампуса, даже студенты, не питавшие к музыке никакого интереса, посещали его курс по теории музыки ради него самого. Меня охватило порочное желание сопротивляться его обаянию, однако, когда мы покинули его маленький пряничный домик, я сжал руку Джейд и сказал: «Какой потрясающий мужик!» Не знаю, растрогал меня Эсбери или же собственный восторг от него, но я едва не разрыдался, произнося эти слова.
Вместе со мной Джейд отправилась на обед к своим друзьям Марше и Тригу. Их квартира, с кривым линолеумным полом и видом из окна на рубероидную крышу и заднюю стенку облупленного гаража, походила на убежище киллера. Мы сидели на полу. Марша с Тригом не были хиппи, поэтому не предложили нам расписных индийских подушек. Они, кажется, были совершенно равнодушны к комфорту, в том числе и к нашему. Но когда они наконец подали обед, он оказался потрясающе изысканным. Рыба с фисташками. Свежие овощи в кляре по-японски. Даже смутно промелькнувшая мысль о том, что они приложили столько усилий для моего удовольствия, тронула меня, словно ласковое прикосновение. Я ел как можно медленнее, глядя на них увлажнившимися глазами, пока они рассказывали о том, как их магазин здоровой пищи пытаются разорить подонки, которых, как они считали, специально наняло местное объединение бакалейщиков.